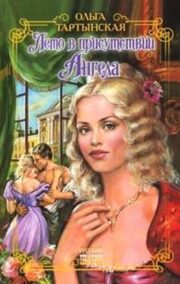По выражению лица Алексея Васильевича трудно было догадаться, какое впечатление произвели на него романсы хозяйки, но он надолго задумался. Пока Лизавета Сергеевна благословляла детей на ночь, гость, испросив разрешения, курил трубку, молчал, затем очнулся и спросил:
— Однако, возвращаясь к моему делу, как вы думаете, сударыня, что вынудило Николая забыть о женитьбе и бредить Кавказом?
Лизавета Сергеевна почувствовала, что краснеет:
— Возможно, отказ его избранницы?
Алексей Васильевич внимательно посмотрел на нее:
— Отказ? Николай не из тех, кого легко сбить с толку, обычно он добивается своего.
— Как это «обычно»?
Гость поправился:
— Разумеется, речь идет не только о женщинах. Я уверен, что зимой он отправится на Кавказ, и я уже не смогу этому воспрепятствовать. Для меня важно, чтобы сын завершил курс, а там пусть хоть в Турцию, хоть в Америку, коли ему так надо! Послужить ему не мешает, иначе не сделаться мужчиной.
— Но там убивают! — возмутилась Лизавета Сергеевна.
— Хорош солдат, который пули боится! — усмехнулся Мещерский. — Мужчина создан для войны. Я говорил ему об этом, когда советовал идти в полк, но он распорядился иначе…
В голосе отца слышались нотки уважения и восхищения сыном. Хотя и раздражения тоже. Оба они являли собой воплощенную мужественность и, очевидно, найти общий язык могли, но шли к этому трудно.
— А если Nikolas жениться сейчас, вы лишите его наследства? Из-за каких-то нескольких месяцев, которые осталось ему учиться? — спросила дама.
— Да. Так было условлено. Впрочем, возможно, я отступлюсь от своего слова, если поближе узнаю его избранницу, — Алексей Васильевич еще раз пытливо всмотрелся в лицо потерянной Лизаветы Сергеевны. Она молчала, кусая губы. Гость поднялся с извинениями, что так долго злоупотреблял гостеприимством хозяйки и утомил своим присутствием. Уже уходя, он остановился на пороге и спросил:
— Вы позволите бывать у вас, пока я занимаюсь здесь свои дела?
— Да-да, конечно, — поспешила ответить молодая женщина.
— Я не смог уговорить Николая представить меня вам: сослался на крайнюю занятость, — Алексей Васильевич насмешливо фыркнул и откланялся окончательно.
Вернувшись к себе и устало раздеваясь, Лизавета Сергеевна думала о том, что старший Мещерский скорее понравился ей, чем наоборот, что теперь многие черты любимого стали яснее, понятнее. Отослав горничную и погасив свет, она попыталась уснуть, но сон все никак не шел. Проползли томительные два часа, бедная женщина так и не сомкнула глаз. Решив больше не сопротивляться бессоннице, она встала, облачилась в пеньюар и присела к ночному столику, чтобы продолжить свои записи в журнале.
Теперь уже ночь, и я не могу спать после визита отца Николеньки. Как он напомнил мне родные черты, звук его голоса и даже усмешку! Разлука стала еще невыносимее. Что если Nikolas исполнит угрозу и поедет на Кавказ? Боюсь даже думать об этом! Можно не сомневаться, что такая разлука окончательно убьет наши отношения, навсегда… Впрочем, не того ли я хочу? Забыть о нем, тогда уйдет эта тягостная боль, которая лишает меня сил жить! Забыть… Господи, как больно. Но ведь эта маленькая жизнь во мне никогда не даст его забыть.
Тоска, обострившаяся ночью, как все чувства, подтолкнула страдающую женщину к решению написать Мещерскому. Одна только мысль, что она может навсегда потерять любимого и снова вернуться в одиночество, холод которого она в полной мере испытала только теперь, заставила Лизавету Сергеевну, обливаясь слезами, заполнить лист почтовой бумаги бессвязными строчками, сплошь усыпанными восклицательными знаками. Но она писала, и ей становилось легче: боль, тупая, нутряная, отступала постепенно. «Завтра, завтра он вернется и…» А что «и», об этом думать не хотелось. Только бы увидеть его, прикоснуться к его руке и увериться, что он есть, он живой, непридуманный!..
Не перечитав письма, Лизавета Сергеевна погасила свечу и сразу же уснула, только коснулась подушки. Во сне она летала. Не очень высоко, но все же отрывалась от земли и взмывала вверх.
Письмо не было отослано на другой день и на следующий тоже: Лизавета Сергеевна сожгла его на свече. Дело в том, что наутро, когда она только проснулась (довольно поздно), ей принесли записку от Алексея Васильевича, которой тот приглашал ее к своим родственникам на домашний вечер, устраиваемый в его честь. Думать было некогда: слуга дожидался ответа и чаевых. Первый порыв был отказать, но зыбкая надежда встретить там Nikolas решила все. Черкнув несколько слов, Лизавета Сергеевна отпустила посланца, наградив его полтиной. Мещерский — старший должен был заехать за ней в седьмом часу.
Она перечитала свое письмо к Nikolas и, сочтя его совершенно безумным, решила повременить с отправкой. Те пылкие признания и стенания тоски предполагали все же необходимость видеть глаза собеседника; это такая тонкая материя, и невозможно довериться листу почтовой бумаги. А вдруг Nikolas уже разлюбил ее, ведь он молод и едва ль не слишком жив, чтобы хранить верность без всякой надежды («А я лишила его всякой надежды!»)? Или его любовь не столь сильна, чтобы выдержать испытания? У мужчин все по-другому… Что если какая-нибудь юная особа уже вытеснила из его души воспоминания лета? Все эти раздумья и сомнения истощали Лизавету Сергеевну. Надо было встретить Мещерского, заглянуть в его глаза, и в них прочитать ответ. Только тогда она откроет свою тайну.
Глубокие размышления не помешали Лизавете Сергеевне основательно заняться подготовкой к вечеру. Она велела Палаше приготовить ванну с душистыми и успокоительными травами, принести из погреба лед для компрессов на лицо, долго раздумывала, какой выбрать наряд. Остановилась на белом газовом платье, соблазнительно открывающем роскошные плечи и грудь, похудевшие за последний месяц изрядно, но не потерявшие своей белизны и привлекательности. «Он не видел меня в этом платье», — невольно пронеслось в голове. Между короткими пышными рукавчиками и белыми перчатками до локтя оставалась тонкая полоска обнаженной руки. Платье убиралось живыми цветами и бантом на поясе, а на согнутые руки набрасывался газовый шарф. Атласные бальные туфельки без каблуков выглядывали из-под оборок, доходящих до косточки. Талия, затянутая в корсет, казалась невероятно тонкой, а корсаж имел форму сердечка. Бальный наряд весьма пристал Лизавете Сергеевне, в нем она значительно молодела и становилась похожа на фею. Еще прическа, целое искусство: завить локоны, вплести цветы, забрать волосы на затылке в шиньон.
К половине седьмого (в столовой пробили часы, играющие мелодию Генделя) платье было отпарено, Лизавета Сергеевна благоухала травами и тончайшим ароматом дорогих духов, локоны были завиты, корсет зашнурован. Тут-то и зазвенел колокольчик в прихожей: явился кавалер.
Сбросив на руки лакея свой бурнус и сняв цилиндр, он вошел в гостиную. Алексей Васильевич тоже преобразился: изысканный черный фрак, бархатный жилет, белоснежная рубашка тончайшего полотна, серые панталоны и — о, чудо! — чуть завитые волосы приподняты надо лбом. В руках он держал богатую трость с бронзовым набалдашником. Произнеся слова приветствия, гость одобрительно оглядел даму и предложил ей руку.
Их ожидала английская коляска с поднятым верхом, которая покатила на Поварскую, к богатому особняку князей Мещерских. В дороге они едва перебросились двумя фразами. Лизавета Сергеевна волновалась, зная, что ей предстоит знакомство со всеми родственниками Nikolas, и этого она боялась чуть не больше, чем встречи с самим Мещерским.
Подъезд был ярко освещен, кареты толпились, как будто затевался большой прием. Впрочем, так это и было. Домашний вечер отличался от блестящего бала лишь составом гостей, среди которых были только свои, тем, что князь и княгиня не встречали у парадной лестницы: все входили по-свойски, а также тем, что танцевали под фортепьяно, а не под оркестр.
Страхи Лизаветы Сергеевны были напрасны. Она сразу обнаружила знакомых, которые ласково ее приветили и занялись ею. Алексей Васильевич на время куда-то исчез, представив спутнице свою кузину Авдотью Федоровну, тетушку Nikolas, у которой тот проживал. Она являла собой добродушнейшее существо, была смешлива, кругла, носила на голове малиновый ток невероятных размеров и лорнет на цепочке. Из кармана ее платья выглядывала книга, так не вяжущаяся с обстановкой вечера.