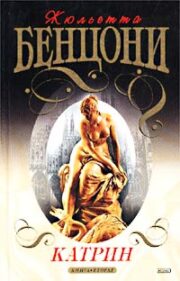Поскольку он все еще не был расположен к беседе, Катрин предпочла ехать за ним на расстоянии нескольких шагов. Радость встречи с другом исчезла. Теперь ей было не по себе рядом с ее старым товарищем по приключениям.
Катрин все ниже склоняла голову. Ее тревога становилась непереносимой, тем более что – она в этом едва решалась признаться – Тристан теперь ее скорее пугал… У нее создавалось мучительное впечатление, что друг прежних лет ожесточился и отдалился от нее, что, возможно, он прятался в своих доспехах, стараясь преградить путь воспоминаниям, запретить любое воскрешение прошлого.
Улицы, по которым они проезжали, дома, проплывавшие мимо, – все это кричало о нищете, запустении, страданиях, кричало окнами без рам и с выбитыми стеклами, пробитыми крышами, сорванными, часто открытыми в пустоту дверями. Город почти обезлюдел, изредка попадались кошки, избежавшие великого голода и пришедшие сюда доживать свой век.
С тех пор как Париж стал английским, город потерял четверть своего населения, то есть примерно сорок пять тысяч жителей. Самому большому в мире городу было сделано тяжелое кровопускание.
Конечно же, рядом с развалинами остались какие-то дома, чьи фасады не пострадали, стекла блестели, флюгера отливали позолотой и крыши светились, как чешуя свежей рыбы, но в них жили пособники захватчиков.
Однако жизнь понемногу возвращалась. То здесь, то там уже шли строительные работы.
Все это звучало прелюдией обновления. Но Катрин смотрела на это как бы со стороны. Даже нищета и опустошение не находили отклика в ее душе, она почти их не замечала.
Когда они пересекали Гревскую площадь, Катрин услышала, как ее паж вздыхает:
– И это Париж? Я представлял его другим!..
– Это был Париж, и скоро это будет новый Париж! – проговорила она с некоторым вызовом, так как в эту минуту судьба Парижа была ей в высшей степени безразлична.
Тем не менее, пытаясь доставить удовольствие пажу, она добавила:
– Этот город станет таким же, каким он был во времена моего детства: самым красивым, самым просвещенным, самым богатым… а также самым жестоким и самым тщеславным!
Однако они подъезжали.
Тристан Эрмит сошел с лошади перед гостиницей. Расположенная на улице Сент-Антуан, напротив высоких стен строго охраняемого отеля, между улицей Короля Сицилийского и останками старой стены Филиппа-Августа, эта гостиница сохранила процветающий вид, и ее вывеска, на которой распластался орел с раскинутыми крыльями, была заново расписана и позолочена.
– Вы устроитесь здесь, – объявил он Катрин, помогая ей сойти с лошади. – Английские капитаны очень любили гостиницу «Орел», слава которой восходит еще к середине прошлого века. Таким образом, она не слишком пострадала. Вам здесь будет хорошо. А! Вот и мэтр Ренодо…
Действительно, из дверей выбежал трактирщик, вытирая руки о белый передник. Он взглянул на Тристана… и согнулся вдвое, выразив то же почтение, что и солдаты, но меньше страха.
– Сеньор прево! – вскричал он. – Какая честь для меня видеть вас! Чем могу служить?
– Прево? – удивилась молодая женщина.
Впервые он ей улыбнулся, а его холодный взгляд чуть потеплел.
– Вы находите, что это звание уже несколько обесценено, не так ли? Успокойтесь, нас здесь только трое: мессир Филипп де Тернан, мэтр Мишель де Лаллье и я, прево маршалов, к вашим услугам!
– Вот почему военные приветствуют вас с такой почтительностью… и подобострастием?!
– Да, это так! Меня боятся, так как я без всякой жалости применяю закон и слежу за дисциплиной, без которой невозможна никакая армия, а коннетабль настаивает, чтобы его армия была образцом в своем роде.
– Без жалости? Всегда?
– Всегда! И чтобы нам было легче говорить, хочу сразу вам сообщить… Это я арестовал капитана де Монсальви.
– Вы!.. Вашего друга?
– Дружба здесь ни при чем, Катрин. Я только исполнил долг. Но идите сюда. Пока горничные устраивают ваше жилье, мэтр Ренодо очень бы хотел приготовить нам обед. У него осталось, к счастью, кое-что из превосходных солений и несколько бочек восхитительного вина, которые он предусмотрительно замуровал в погребе. Наш въезд в Париж заставил упасть еще одну стену.
Красная физиономия трактирщика расплылась в довольной улыбке.
Через минуту Катрин, Тристан и Беранже сидели за столом перед огромным камином.
Беранже тут же набросился на еду, что естественно в пятнадцать лет, Катрин, хотя была голодна, даже не притронулась к пище. Прежде всего ей нужны были полные и ясные объяснения, ибо она знала, как легко за столом представить дело в радужном свете.
Тристан Эрмит удивился этой воздержанности, поскольку его всегда восхищал прекрасный аппетит Катрин.
– Неужели вы не голодны? Ешьте, моя дорогая, мы побеседуем после.
– Мой желудок может подождать. Но не мое сердце… Мне гораздо важнее знать, что произошло, чем утолить голод… и вы знаете почему. Вы же, напротив, заставляете меня томиться в ожидании и воображать Бог знает что! Худшее, разумеется! И если я вас послушаюсь, вы опять будете меня водить за нос. Это не по-дружески.
Тон был суров. В нем пробивался зарождающийся гнев. Прево не ошибся в этом, и в его лице появилась прежняя теплота. Он вытянул руку, схватил ладонь Катрин, лежащую на столе, и крепко ее сжал, как бы не замечая, что она стиснула кулак.
– Я все еще ваш друг, – подтвердил он горячо.
– Так ли это?
– Вы не имеете права в этом сомневаться. И я вам это запрещаю!
Она устало пожала плечами.
– Возможна ли дружба между прево маршалов… и женой убийцы? Ведь это так, не правда ли, если я вас правильно поняла?
Тристан, принявшийся резать гуся, на которого устремлял горячий взгляд Беранже, поднял голову и с удивлением посмотрел на Катрин. Потом он внезапно разразился хохотом.
– Клянусь святым Кентеном, святым Омером и всеми святыми Фландрии! Вы не меняетесь, Катрин! Ваше воображение всегда будет нестись вскачь впереди вашего милого носика с таким же жаром, с каким в прежние времена вы, с черными косами цыганки, бросились на приступ толстого Ла Тремуя и привели его к гибели. Вы несетесь вперед! Вперед! Но, клянусь Пасхой, я никогда не давал вам основания сомневаться в моей дружбе.
– Вы ведь меня хорошо знаете, и, однако, глядя на вас, можно подумать, что вы пытаетесь выиграть время, как будто трудно мне сказать все разом, в двух словах, что сделал мой муж!
– Я вам это сказал! Он убил человека! Но о том, чтобы считать его убийцей, никогда не шла речь. Поступая так, он скорее отстаивал справедливость.
– И вы теперь защитников справедливости сажаете в Бастилию?
– Перестаньте меня перебивать и выражать протесты, или я больше ничего не скажу.
– Извините меня!
– Действительно ему ставят в вину это убийство. Но главное преступление – это серьезное неповиновение, презрение к дисциплине и полученным приказам. Я заставил вас немного подождать, так как размышлял, как вам это рассказать, чтобы вы тут же не принялись вопить. Я хотел, чтобы вы хорошо поняли мое положение… и положение коннетабля, поскольку я действую только по его приказу.
– Коннетабля! – пробормотала Катрин с горечью. – Он тоже уверял, что является нашим другом! Он крестный моей дочери, и тем не менее он приказал…
– Но, черт возьми, поймите же, что, являясь крестным мадемуазель де Монсальви, он прежде всего верховный глава королевских армий. Тот, кому обязаны беспрекословно подчиняться даже принцы крови! Ваш Арно не брат короля, насколько мне известно, и, однако, он ослушался приказа!
Но, видя, как глаза Катрин наполняются слезами, а пальцы нервно играют хлебным шариком, он ворчливо добавил:
– Теперь кончайте злиться и подкрепитесь! Позвольте положить вам немного этой аппетитной птицы и не считайте себя обесчещенной или преданной только потому, что мы разделим хлеб и соль! Ешьте, какого черта! И выслушайте меня…
Усердно ухаживая за своей гостьей, Тристан приступил наконец к рассказу о том, что произошло утром 17 апреля в окрестностях Бастилии:
– Когда город стал нашим и надежда покинула его прежних хозяев, они стали думать только о том, чтобы подороже продать свою жизнь, и поспешили укрыться за стенами Бастилии, которые казались им самыми прочными во всем Париже. Их было примерно пятьсот человек – англичан и преданных им горожан.
Кроме сэра Роберта Уиллоугби и его людей, там спрятались сеньор Людовик Люксембургский, канцлер, преданный королю Англии, епископ Лизье, Пьер Кошон, некоторые именитые горожане, в числе которых крупный буржуа с улицы Ада Гийом Легуа, хозяин «Большой Скотобойни»…