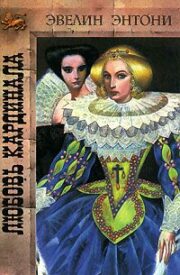Анна со своей свитой остановилась в одном из особняков, и герцогиня де Шеврез получила разрешение провести со своей повелительницей последний вечер. Ей удалось устроить так, что герцог с несколькими своими придворными нанесли прощальный визит королеве. Вечер был теплым и приятным, и по предложению герцога все вышли гулять в сад. Анна направилась по тенистой аллее, усаженной по краям деревьями и цветущими кустами. Бекингем шел рядом, и Анна называла ему цветы дрожащим от сдерживаемых слез голосом.
– Я вернусь, – прошептал он вдруг. – Не знаю как, но я вернусь в Париж и увижу вас снова. Я не прошу у вас ничего – только разрешения снова вас увидеть.
– Прошу вас, – взмолилась Анна. – Я не выдержу и заплачу, и кто-нибудь сообщит об этом. Не говорите о расставании, вообще ничего не говорите.
Герцог увидел сворачивающую налево тропинку, скрытую от глаз густым кустарником. Оглянувшись и увидев, что остальные отстали, он схватил Анну за руку и свернул с ней на эту дорожку. Впервые с тех пор, как он приехал во Францию, они оказались наедине, и в тот же момент Анна оказалась в его объятиях. Она не смогла даже вскрикнуть, сила его рук парализовала ее. Они стояли, прильнув друг к другу. Страсть герцога охватила ее, словно вспышка пламени. Возбужденная его умелыми поцелуями, она обвила руками его шею и, затаив дыхание, прижалась к нему. На секунду она открыла глаза и вдруг увидела полускрытое кустами лицо и руку, раздвигающую ветки.
Ее спас слепой инстинкт. С усилием отстранившись, она издала крик о помощи. Герцог отпустил ее, и Анна сделала шаг назад, дрожа и прислушиваясь к топоту убегающих ног и голосам ее встревоженных дам. Шпионка незаметно присоединилась к ним. В числе первых подбежавших к ней женщин Анна увидела мадам де Сенлис и со стыдом и ужасом подумала, что ей пришлось скомпрометировать герцога, чтобы спасти себя. Борясь с истерикой, она отвернулась от него, стараясь не слышать протесты герцога и не видеть, как пытаются увести его прочь.
В уединении своей комнаты она упала в обморок. Состояние королевы показалось настолько тревожным ее личному врачу, что он приказал пустить ей кровь, а свита Анны, трепеща при мысли о собственной небрежности, выразившейся в том, что они оставили королеву наедине с герцогом, распространила весть, будто Анна больна от шока и возмущения.
Двадцать третьего июня Генриетта Мария отплыла в Англию. Герцог Бекингем стоял на палубе, напряженно всматриваясь в берега Франции, пока они не скрылись в морском тумане. Несколькими месяцами позже, находясь в Фонтенбло, Анна получила письмо. Оно пришло из Брюсселя и было тайно доставлено ей преданным слугой Ла Портом. Ла Порт и другие ее приближенные, сохранявшие ей верность, были уволены королем при возвращении из Амьена, но письма из Лондона, а потом из Брюсселя с риском для жизни ее друзей по-прежнему доставлялись Анне.
Мадам де Шеврез находилась в Брюсселе. Добившись разрешения уехать из Англии, она не осмеливалась вернуться во Францию и встретиться лицом к лицу с Людовиком, разгневанным инцидентом в Амьене, так как он не сомневался, что именно герцогиня поощряла Бекингема. В бешенстве от вынужденной ссылки Мари не сомневалась в том, кто обратил внимание короля на ее роль в том деле. И письма Анны, полные жалоб на оскорбления и слежку, которой она теперь подвергалась, свидетельствовали, что она страдает по вине того же лица. Анне было запрещено писать и получать письма, выезжать за пределы дворца без разрешения короля, давать аудиенцию любому лицу мужского пола и приближаться к своему королевскому супругу, не испросив предварительно, как любой скромный придворный, официального разрешения. Ее комнаты были пусты, с ней остались только те, кто ей прислуживал, так как дружба королевы неизбежно оборачивалась немилостью короля.
А влияние кардинала на Людовика можно было сравнить только с его властью над Францией. Обо всем этом Анна писала своей верной подруге, добавляя, что единственным человеком, сохранившим к ней дружескую привязанность, который скрашивал повседневную скуку ее жизни своими постоянными визитами, был брат короля, герцог Орлеанский. Письмо, пришедшее сегодня, было необычно коротким. Оно содержало новости о поклоннике Ее Величества, чья страсть только возросла в разлуке и который сейчас вел переговоры о своей дипломатической поездке во Францию. В письме содержался совет терпеливо сносить невзгоды, так как все, кто любит королеву, – и те, что находятся при Дворе, и те, что живут в отдалении, – готовятся очень скоро устранить источник этих невзгод.
Глава 3
– Направляясь к Вашему Величеству, я встретил герцога Орлеанского, – сказал Ришелье. Он сидел в кабинете короля в Лувре, в то время как Людовик читал и подписывал документы. Король поднял голову; он как будто еще больше похудел, цвет лица стал более болезненным: недавно у него случился один из тех приступов, которые так беспокоили врачей и по слухам были эпилептическими припадками. Ему пускали кровь до полного истощения, и только от природы крепкая конституция позволила ему пережить как болезнь, так и лечение.
– Он идет сюда? – нахмурился Людовик, держа перо на весу в воздухе. Кардинал следил за тем, как капля чернил, накопившись на кончике пера, упала на бумагу. Затем он посмотрел на короля и ответил:
– Нет, сир, он шел к королеве.
– Я запретил ей принимать гостей! – Людовик в гневе бросил перо. – И моему брату это известно. Он знает, что королева в немилости, и всеми силами старается показать свое неповиновение.
– Я знаю, но вы едва ли можете запретить это ему, не вызвав серьезного скандала, причем совершенно необоснованного, – отозвался мягко Ришелье. – Между ними родственная связь, а если вы запретите им встречаться, будет казаться, что вы подозреваете наличие другой связи.
Людовик скорчился от намека, как от физической боли. Сначала Бекингем и та позорная сцена в Амьене, которая в его представлении, искаженном безумной ревностью, ничем не отличалась от измены, а теперь, когда он отомстил за себя и скандал утихал, – его собственный брат! Глаза короля сузились и помрачнели от подозрения.
– Почему он ее навещает? Почему уделяет ей столько внимания, когда знает, как она виновата!
Кардинал пожал плечами.
– Без сомнения, его привлекает красота королевы – вполне невинно, конечно. И он избалован. Герцога никогда не приучали считаться с вашими желаниями.
– А королеву? – горько спросил Людовик.
– Думаю, да, сир.
Ришелье не переставал следить за ней, безжалостный в удовлетворении своей мести; видел ее бледное лицо, покрасневшие от слез глаза – результат наказания, наложенного им на Анну за то, что всем стало известно, как Бекингем держал ее в своих объятиях. Но наказания мягкого – в сравнении с жестокими намерениями короля. Только предложенными унижениями кардиналу удалось замаскировать тот факт, что он спас Анну от действительной утраты свободы. Он так окрутил короля, что тому казалось, будто все действия в отношении королевы продиктованы его собственной королевской мудростью. И кардинал не уставал восхвалять это чувство королевской справедливости.
Как бы он ни ненавидел Анну, – признавался себе Ришелье, – но ему приходилось не только ее наказывать, но и защищать. Ему нужно было, чтобы она оставалась свободной и невредимой, потому что, и это заметил отец Жозеф, он намеревался когда-нибудь одержать над ней победу как мужчина.
Но те же сомнения, что мучали Людовика, преследовали и кардинала. Бекингем был далеко. Маленький Двор королевы распущен. Она оказалась в одиночестве, если не считать нескольких унылых женщин, находящихся у нее в услужении. И только брат короля, заклятый враг кардинала, пытался пойти по стопам англичанина.
Ришелье размышлял о Гастоне Орлеанском. Опытный повеса в свои восемнадцать лет, всегда в долгу; бездельник, проводящий время, поглядывая одним глазом на трон, а другим на известного своим хрупким здоровьем старшего брата. Чем он занимался, находясь с Анной, у которой не было ни друзей, ни развлечений? В чем заключалась суть интриги? Любовная она или политическая? Или и та и другая вместе?
«Думаю, что удар придет со стороны тех, кто находится возле вас», – спокойный голос отца Жозефа вспомнился кардиналу, пока он следил за королем, корчившимся от ревности к своему брату. Было ли это прелюдией к удару: дружба между беспомощной королевой, ненавидящей его, и молодым принцем, завидующим могуществу кардинала.