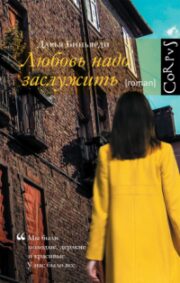Расстегиваю пальто и кладу руку на живот. Ощущаю, как шевелится Ада, ее присутствие меня успокаивает. Один из замечательных моментов в ожидании ребенка: ты никогда не чувствуешь себя одинокой.
Нажимаю кнопку звонка, чтобы услышать его звук, но звука нет. Лео предупредил меня, что электричество отключено.
Мне хочется присесть, смотрю по сторонам: может, где–то рядом есть бар, но я ничего не вижу.
Ни магазинов, ни баров, ни случайных прохожих. Только небольшой трактир дальше по улице, да и тот закрыт.
В окне первого этажа, в доме напротив, появилась пожилая женщина. Этот дом похож на мамин, только не оштукатурен. Окна также зарешечены, но женщину видно хорошо. Она смотрит прямо на меня и, открыв окно, говорит на местном диалекте, так что я, скорее, догадываюсь о смысле слов, чем понимаю их:
— Здесь никого нет, милая.
Слышу резкий, хриплый лай — рядом с хозяйкой выглядывает маленькая собачка. Должно быть, заметив, что я беременна, женщина спрашивает:
— Хочешь воды?
— Да, спасибо, — благодарю я. — Можно мне войти? Я бы присела…
В ответ слышу лишь стук закрывающегося окна.
Я, конечно, хотела бы посидеть, но не в этом проблема, просто мне пришло в голову, что эта пожилая дама могла знать мою маму, Майо, бабушку и дедушку.
Входная дверь долго не открывается, и я уже начинаю подозревать, что женщина передумала, как внезапно раздается громкий щелчок.
Захожу внутрь. В передней тесно и темно, низкий потолок с деревянными балками, на полу — старая потертая плитка.
Женщина в глубине коридора знаком приглашает меня пройти. У нее стройная, несмотря на преклонный возраст, фигура. Седые, идеально уложенные волосы, обрамляют красивое лицо с высокими скулами. Синее платье «свободного», как говорит моя мама, покроя, элегантные синие туфли. И драгоценности: жемчужное ожерелье, кольца, старинная брошь. Перед женщиной бежит белая лисичка и с любопытством меня разглядывает.
Первый вопрос, который мне адресован:
— Понимаешь по–феррарски?
— Не очень.
Моя мама никогда не говорила на феррарском диалекте.
Мы проходим по темному коридору: я не вижу ни окон, ни дверей, замечаю только, что пол выложен матовой плиткой — большие белые и красные квадраты, — и попадаем в кухню, безупречно чистую и тоже темную. Лисичка с лаем бежит впереди, женщина несколько раз повторяет: «Нельзя!» Должно быть, таков их ежедневный диалог: собака лает, женщина отвечает: «Нельзя!»
И здесь низкий потолок с балками из темного дерева, на полу такие же красные и белые плитки и светло–желтые, как в коридоре, стены. Новая мебель из дерева теплого тона с декоративными элементами «под старину» контрастирует со стальной мойкой, старой кухонной плитой и духовкой. На большом ковре стоит деревянный овальный стол, покрытый скатертью, связанной крючком. Цвет скатерти — элегантный: не белый, а слоновой кости. Все выдает здесь достаток, однако я бы не сказала, что в этом доме живут давно, создается впечатление, что тут поселились совсем недавно. Нет ни фотографий в рамках, ни книг, только болонская газета «Тесто дель Карлино» на бархатном кресле возле окна. Возможно, женщина читала ее как раз в тот момент, когда увидела меня. Очки в металлической оправе с цепочкой лежат на столе. Скорее, это даже не кухня, а столовая.
Женщина указывает мне на стулья с мягкой обивкой, расставленные вокруг стола, протягивает стакан воды и сама садится напротив.
— Что ты хотела? Там давно никто не живет. — Она больше не говорит со мной на диалекте. И свистящим шепотом «Нельзя!» бросает лисичке, которая продолжает хрипло лаять в ответ на каждую ее фразу.
Чувствую, что с этой женщиной лучше быть осторожной, не стоит открывать ей всей правды. Есть что–то холодное в ее прямой осанке, в сжатых губах, в этом пристальном взгляде без тени улыбки. Выбираю полуправду.
— Я приехала посмотреть Феррару, мама говорила, что по этому адресу жили ее хорошие знакомые. Вы знаете, кто там жил?
— Конечно, — и к этому больше ничего не добавляет.
Я не чувствую враждебности в ее тоне, очевидно, она очень скрытная, не любит много говорить.
— Вы хорошо их знали? — Я пробую завязать разговор.
— Достаточно хорошо, — отвечает она и замолкает. Тишину прерывает только лай лисички и окрик «Нельзя!».
Я стараюсь нащупать какую–нибудь ниточку, чтобы вызвать ее на разговор, но, как назло, в голову ничего не приходит. Эта женщина с лисичкой мне симпатична, у них какой–то свой, прочный, самодостаточный и недоступный мне мир. В этой комнате нет ничего такого, за что можно было бы зацепиться, а она, кажется, не испытывает никакого интереса к моему положению. Обычно бабушки засыпают меня вопросами: «Когда рожать? Первенец? Как назовешь?» А эта молчит. Удивляюсь, почему она предложила мне воды?!
— Как его зовут? — спрашиваю, показывая на собаку, которая теперь сидит около меня и внимательно смотрит, склонив голову набок. Морда выразительная, кажется, вот–вот улыбнется, не то что хозяйка.
— Это она, — слышу ответ, — девочка.
И все.
— Меня зовут Антония.
Отпиваю глоток воды и поглаживаю живот в надежде, что Ада мне что–то подскажет. Женщина смотрит на мой живот, но взгляд ее не становится мягче. Вдруг в глазах у нее что–то сверкнуло.
— Ты — дочка Альмы, — говорит таким тоном, будто она меня разоблачила.
Почему–то мой живот ее возмутил. Интересно, как она догадалась? Получается, у меня нет другого выхода, придется говорить правду.
— Я на нее похожа? — спрашиваю, пытаясь улыбнуться.
— Нисколько. Но я не вижу другого пути, как кольцо моей мамы могло бы попасть к тебе.
Кольцо ее матери? Но это же бабушкино кольцо!
— Вообще–то я думала, что это кольцо мамы моей мамы.
— Это кольцо принадлежало моей матери, — холодно отвечает она. — Она отдала его моему брату. Он хотел подарить его своей дочери на свадьбу, а подарил в итоге твоей бабушке.
Значит, мама префекта жила напротив: вот как они познакомились. И он подарил ей кольцо своей матери! Чувствую себя очень неловко, но мне надо так много у этой женщины спросить… Попробую начать издалека.
— Вы давно здесь живете? Кажется, все такое новое… — рискую я.
— Я только что закончила ремонт на кухне, она пострадала при землетрясении. А раз уж начала ремонт, сын посоветовал поменять мебель, — отвечает она. И неожиданно добавляет: — Я всю жизнь здесь живу. Здесь жили мои родители, а потом мы с мужем. Брат часто заходил после работы проведать маму. Оставался на полчасика, они сидели как раз у этого окна.
Собака начинает лаять всякий раз, как только хозяйка заканчивает фразу. На мой голос она так не реагирует. Может, так отвечает, а может, хочет подчеркнуть важность того, что говорит хозяйка.
— Нельзя! Они были очень близки, мама с братом. Мама родила его почти в пятьдесят, возраст менопаузы. Он был самым младшим, всеобщим любимцем.
Поражаюсь, как эта скрытная и сдержанная женщина может с легкостью говорить о менопаузе у мамы, но чувствую, насколько все, что касается брата и мамы, для нее важно и дорого.
— А где живет ваш сын? — спрашиваю я.
— В Милане. Он судья, — отвечает она, чуть приподнимая подбородок.
— У вас есть внуки?
— Один, я редко его вижу, он учится в Лондоне.
— А дочь вашего брата?
— У него было трое детей. Двое младших родились в Риме после их переезда. Мы почти не общаемся, даже с его женой.
— Почему?
— Они мне не звонят, и я им не звоню.
Она рассказывает об этом без злости, без слез, как–то обыденно. Я же говорю: самодостаточная.
Она и лисичка в этом доме, и больше им никого не надо.
— Вы помните мою маму и ее брата в детстве? — пробую пойти дальше. Я готова к тому, что она не ответит, но неожиданно ее голос становится теплее.
— Они всегда были вместе.
Я услышала в этом нотки сожаления: казалось, и ей хотелось быть ближе со своим братом.
Интересно, знает ли она о том, что Майо, возможно, ее племянник? Что–то мне подсказывает, что нет.
— Когда мой дедушка покончил с собой, — неожиданно спрашиваю я, — что вы подумали?
Терять мне нечего, могу позволить себе такую вольность. Я уже поняла, что она скрытна во всем, что не касается ее брата и мамы. Может, из–за ревности?