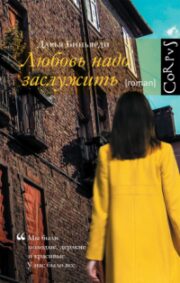Лисичка внимательно смотрит: кажется, она следит за нашим разговором и с нетерпением ждет продолжения.
Женщина встает, относит стакан в раковину, должно быть, дает понять, что разговор окончен, потом медленно оборачивается и отвечает:
— Что за ошибки нужно платить.
О чем она, интересно? Намекает на адюльтер моей бабушки?
Конечно, надо бы спросить: «Какие ошибки? Чьи?» — но мне не хочется. Хочется лишь поскорее уйти.
— Если родится мальчик, можешь назвать его Ариосто.
Луиджи Д’Авалос размешивает свежевыжатый апельсиновый сок с соком лимона и газированной водой.
— Так делают в Неаполе, — объяснил он расплывшейся в улыбке официантке.
Полдень. Мы сидим в маленьком баре моей гостиницы.
Луиджи позвонил как раз в тот момент, когда я возвращалась с виа Виньятальята, и, должно быть, что–то почувствовал в моем голосе, потому что настоял, чтобы мы встретились сразу. Я рассказала ему все — про собаку–лисичку, про взгляд старухи на кольцо и ее фразу о том, что за ошибки надо платить, но, кажется, на него это не произвело никакого впечатления, будто он и так все знал.
По правде говоря, я не сильно продвинулась в своем расследовании, разве что узнала, откуда кольцо, которое ношу на пальце, да как познакомились префект и моя бабушка. Нужно было спросить, к чему относится фраза об ошибках. Эмма, сыщик в моих детективах, так бы и сделала. Но у меня сложилось впечатление, что сестра префекта имела в виду бабушкин адюльтер: хоть и неловко в этом признаться, но это так.
— Я думал, как можно назвать мальчика на букву «А», и вдруг меня озарило. Нравится? Редкое имя.
— Ариосто? Интересно, а как его будут называть в школе?
— В крайнем случае, Ари. По–моему, прекрасно.
— Очень любезно с твоей стороны, Луиджи, но не обещаю, что назову своего сына именно так.
— Конечно, но все равно подумай. Еще есть время. А он как хотел бы назвать?
— Кто он?
— Твой муж, комиссар Капассо.
— Мы об этом не говорили.
Не буду повторять, что мы с Лео не расписаны, но, в конце концов, он мне как муж.
— Как же так? Ждете ребенка и не обсуждаете имя?
— Я тебе говорила, что мы думаем о девочке и называем ее в шутку Ада, но окончательное решение не принято, мы в поиске, и необязательно имя будет на «А». Просто так сложилось: Альма, Антония и Ада. А может, и не Ада. Может, мы назовем ее… Борджия. Тебя нравится имя Борджия?
Луиджи фыркнул и отпил глоток сока.
— Ты знал, что Изабелла из бара напротив — дочь Микелы Валенти, той девушки, с которой дружил мой дядя Майо? — спрашиваю я.
— Да ну?! Ты уверена? — Кажется, это известие заинтересовало его больше, чем мой рассказ. Мне–то оно не показалось столь значительным.
— Почему ты удивляешься? Разве ты знаком с Микелой? — спрашиваю я.
— Нет, но я знаю Изабеллу, — отвечает он кратко.
Я вспоминаю свое первое впечатление о нем, тогда мне пришло в голову, что передо мной — серийный соблазнитель. Теперь я спрашиваю себя, а что, если это правда?
Над тем, что он сказал вчера на пляже, я не особо размышляла. Просто решила отложить в дальний ящик. Проверенный способ моего отца: «Если ты чего–то не понимаешь, отложи в сторону, придет время, поймешь».
Я отнюдь не уверена, что не стала жертвой его обаяния. Он говорит, что в людях его привлекает доброта. А может, это эффектный обман, которому охотно верят женщины? Какие ужасные у меня мысли!
— Ты спрашиваешь себя, не Дон Жуан ли я, правда? Думаешь, пробую со всеми, включая тебя и Изабеллу? — улыбается он.
Черт возьми, ну да, как раз об этом я и думала. Ни за что не признаюсь, лучше промолчу.
— Ну и думай себе на здоровье, — продолжает он весело. А потом неожиданно спрашивает: — У Микелы немного восточные черты лица?
— Да, а что?
— Она только что вошла. Иди к ней. Не знакомь нас, не надо.
Почему, интересно? Но я согласна, лучше не надо.
— Ладно, пока! — говорю я.
А он уже что–то пишет в своем телефоне.
Альма
Читаю лекцию о Петрарке, а в голову мне приходят строчки Пазолини, которые были написаны на первой странице моего дневника: Странное страдание рождает страсть, остывшая в крови. Душа тогда перестает расти[14] — из стихотворения «Плач экскаватора». В лицее мы быстренько отделались от Петрарки и целые месяцы посвящали Пазолини: другое было время…
Когда перестала расти моя душа?
Я думаю о браке моих родителей, о маме, относящейся к отцу с неизменной заботой и снисхождением. Она никогда его не осуждала. Тогда она казалась мне сильной, я думала, что на ее безграничном терпении держится наша семья. Однако ее жертвенность не спасла никого: ни Майо, ни отца. Вспоминаю последнее Рождество, которое мы встречали все вместе, следующее я встречала уже одна.
Ненавижу моментальные снимки, потому что они лгут. Я разорвала почти все полароидные фотографии, храню лишь одну, с нашего последнего Рождества. Семейные фотографии не передают реальных чувств: ты смотришь на них и видишь елку с огнями, нарядные шары, улыбки, напоминающие о домашнем тепле и радости, и у тебя рождается щемящая грусть. «Как мы были счастливы!» — думаешь ты. Но беда уже вошла в наш дом.
Отец, единственный, кто еще ни о чем не догадывался, хотел сделать общую фотографию у елки, которую мы нарядили в тот вечер, когда Майо всеми правдами и неправдами пытался ускользнуть из дома. Я злилась на него. Мама все понимала, и мне было ее жаль. Она такого не заслуживала, это было несправедливо. Хоть мы с Майо и считали себя взрослыми, учились в лицее, традиция вместе наряжать елку во второе воскресенье декабря сохранялась неизменно.
Я пригрозила Майо, что, если он, как обычно, уйдет, я все расскажу отцу. Он остался, но не принимал участия в наших приготовлениях. С недовольной миной завалился на диван и оттуда наблюдал, как мы разбирали шары и комментировали: «Ты помнишь этот? А гирлянды горят? Что на верхушку, звезду или шпиль?»
Должно быть, отец думал, что сын стал слишком взрослым, чтобы радоваться елке. Он попросил поставить диск с рождественскими песнями Бинга Кросби, и Майо нехотя поставил. Потом, когда мама предложила открыть бутылочку хорошего вина, он повеселел и стал напевать фальцетом «В город едет Санта — Клаус», намотав на шею серебристую мишуру, как боа из перьев. Вино было новым моментом нашего ежегодного ритуала, который не предусматривал никакого алкоголя, только кусочек рождественского кулича. Я лишь позднее поняла его значение: мама боялась, что у Майо начнется ломка, и считала, что вино сможет ему помочь. Я‑то никогда не думала о том, что Майо страдает, что это физическая зависимость. Я была слишком зла на него, слишком сосредоточена на себе и слишком наивна. Тогда я ничего не понимала, не представляла себе, как это бывает. И он никогда не говорил, что ему плохо.
В тот вечер перед сном он зашел ко мне в комнату, чего давно уже не делал, и принялся разглядывать мои книги.
— Что ищешь? — спросила я.
— Ничего, просто смотрю, что ты читаешь.
Я чувствовала, он хочет мне что–то сказать, но не делала шага навстречу. Закрыла ставни, включила ночник на комоде, выключила верхний свет.
— Я очень хочу спать. Завтра у меня контрольная работа.
Он сделал такое лицо, будто его сейчас вытошнит. В сентябре, уж не знаю как, он прошел переэкзаменовку, но потом вообще перестал учиться.
Сел на мою кровать, упер локти в колени, обхватил лицо руками. Сквозь пальцы были видны только глаза.
— Мама хочет отправить меня в общину для наркоманов. Я не смогу там…
Я ничего не ответила. Мне казалось, что все это происходит не с нами. Майо в общину? Все кончено. Тревожное чувство сдавило живот. Я вышла из комнаты, сказав: «Я в туалет».
На фотографии, сделанной 25 декабря, через две недели после того вечера, отец стоит между мамой и мной, положив руки нам на плечи. Он снял очки, на нем красный кардиган, который мама подарила ему накануне. Он наклонил голову к маминому плечу и кажется вполне довольным. Я тоже получила в подарок от мамы красный свитер с косами, она сама связала, на фотографии я в нем и в вельветовых брюках.