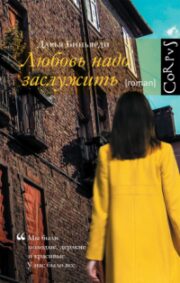— Ты собираешься нас познакомить?
— Не исключено. Он гинеколог, вдруг ты решишь родить раньше времени? — подмигивает она мне.
Мы спустились с вала на узкую тропинку, посыпанную гравием, по обеим сторонам которой растет высокий кустарник, живая изгородь. Великолепный лабиринт, в котором мы одни. Слышно лишь щебетание птиц да изредка мягкий шелест шин осторожно обгоняющих нас велосипедов. То, что Микела назвала хибарой, на самом деле небольшой деревянный домик, окруженный деревьями. Во дворе стоят несколько простых столов, покрытых клеенкой.
— Ты не возражаешь, если мы поедим на улице? Сегодня тепло.
Мы садимся на лавки, друг напротив друга. Из домика выходит женщина, у нее зеленые глаза, щедро подведенные сурьмой, она громко обращается к Микеле:
— Привет, Мики, что желаешь: как обычно?
Отмечаю характерный феррарский выговор, как у синьоры Кантони, сестры префекта.
— Спросим мою гостью. — Микела подбородком указывает на меня.
— Ветчина, домашняя колбаса, свежий салат, пойдет? — Женщина разглядывает меня с явным любопытством. — Все натуральное, прямо от производителя.
Зеленые глаза просвечивают меня как рентгеном. Кажется, она принимает меня за иностранку.
— Пойдет, можно и без колбасы.
— Феррарскую чесночную колбасу нужно попробовать обязательно, — настаивает она. — Если хотите, я не буду класть лук в салат.
Не понимаю, какая связь между колбасой и луком, но соглашаюсь:
— Уговорили.
Микела обменивается с трактирщицей довольным взглядом.
Уже в дверях женщина оборачивается:
— Вина не надо, правильно?
— Нет, спасибо, — отвечаем мы хором.
Микела достает из сумочки табак и бумагу для самокруток.
— Приготовлю на потом. Ты куришь?
— Нет.
— И никогда не пробовала?
— Пару затяжек в школе, но меня всегда тошнило.
— Твоя мать в шестнадцать лет курила как турок.
— В жизни не видела ее с сигаретой. А Майо?
— И он тоже. Подростками мы все курили. Майо потом, когда начал колоться, стал курить в два раза больше, а Альма бросила. Я думаю, она панически боялась приобрести зависимость, перестала даже пить пиво.
Ну вот, Микела сама затронула нужную тему, теперь можно спросить о том, что меня волнует.
— Она и сейчас не пьет. Ни вино, ни более крепкие напитки, разве что в исключительных случаях. А когда ты узнала, что Майо колется?
— Сразу же. Я вернулась домой после каникул, мы не могли дождаться встречи. Майо позвонил и сказал, что зайдет за мной, но не зашел. Я ждала его весь вечер, но он так и не пришел и не перезвонил. Я ничего не понимала, это было совсем на него не похоже. На следующий день около полудня я сама ему позвонила, его мама сказала, что он еще спит. В два часа раздался звонок в дверь: это был он. Мы как раз заканчивали обедать, отец был недоволен, а мама тихонько шепнула: «Иди, это Майо». Я же все лето рассказывала о нем.
Побежала бегом вниз. А Майо палкой нарисовал во дворе большое сердце и ждал меня, встав на колени прямо в центре. Палку он держал на плечах, повесив на нее руки. Я сказала ему: «Вставай, дуралей». Тогда он опустил руки, встал, вышел из сердца и обнял меня. Мы сели на невысокий забор перед домом. Он вытащил сигареты: «Не хочешь соломки?» В этот момент я и увидела у него на сгибе локтя синяки. Я сразу все поняла, у меня потекли слезы. Он погладил меня по щеке: «Ну что ты, Мики, это ерунда, ничего страшного». А потом все рассказал. Накануне вечером он кололся. Шел ко мне и встретил Бенетти, который предложил пойти купить товар по сходной цене где–то на окраине города. «И я пошел за ним, Мики, как будто у Бенетти была волшебная флейта. Я не могу тебе объяснить, как это случилось, бред какой–то. Обманул, как дурачка, как Буратино. Прости, я думал о тебе, думал все лето». И потом он меня поцеловал.
Микела рассказывает так, будто все случилось вчера, и мне передается ее подростковое волнение. Должно быть, она бесконечно прокручивает в голове ту встречу с Майо, но не как плохое, а как приятное воспоминание.
— Я была в него по уши влюблена, — продолжает она, — он был не такой, как все. И к тому же красивый: высокий, оливковая кожа, волосы — воронье крыло, как у тебя. Мне всегда нравились красавцы. Если бы ты видела моего мужа в молодости! И еще Майо был открытым, ничего не строил из себя, как другие. Он был самим собой, мог подурачиться. Веселый, непосредственный, все время что–то затевал. Мы, наверное, час просидели, обнявшись, на том заборе. Я сказала, что не останусь с ним, если он будет колоться, что наркоман мне не нужен, и он меня поддержал: «Ты права, Мики. Но я не наркоман, я всего лишь пару раз укололся».
«Если еще раз уколешься, можешь ко мне не приходить», — предупредила я. — Но в субботу он не сдержался, и в следующую тоже, и еще, и еще, а потом стал колоться каждый день, но к тому времени мы уже расстались.
— Ты говорила об этом с Альмой?
— Я пробовала, но она странно отреагировала. Больше я с ней не разговаривала, да и она со мной тоже. Думаю, она причислила меня к новой компании Майо просто из–за того, что я ему звонила, а еще и встречалась с ним.
— Разве вы не были подругами?
— Мы крепко дружили все втроем, но Альма восприняла выбор Майо как личную обиду, как предательство, которое она простить не могла. Она разозлилась на него и на меня тоже, только за то, что мы с ним хоть и расстались, но встречались изредка.
— Почему ты приняла такое категоричное решение? Ты же была всего–навсего подростком.
— Альма не рассказывала тебе о моем двоюродном брате?
— Что? Нет.
— Мой двоюродный брат, Массимо, старше меня на три года. Они жили неподалеку, и мы росли вместе. Он тоже подсел. Это была трагедия для всей семьи. Когда Майо начал колоться, мой брат жил в коммуне для наркоманов. То есть какой–никакой опыт у меня уже был. Я знала, что самое неприятное для них — когда их жалеют.
— Это какая–то эпидемия в ваших краях, — вырвалось у меня.
— Такое было время. Быть может, уцелели те, кто так или иначе занимался политикой, остальные губили себя наркотиками или другим дерьмом.
— Это ужасно, — повторяю я. — Но когда Майо исчез, неужели Альма не пришла к тебе?
— Я думаю, ей было стыдно. После истории с моим братом — а она была в курсе — пробовать колоться и втянуть в это дело Майо… вообще отстой.
Дерьмо, отстой… мне приходит в голову, что Микела и сейчас разговаривает как подросток.
— А ты… — я затрудняюсь сформулировать дальше, — ты, наверное, очень переживала из–за всей этой истории?
— На тебя влияют не события, а то, как ты к ним относишься. Я… всегда была позитивной. Возможно, поверхностной, согласна, но никогда не позволяла другим разрушить меня. Даже тем, кого люблю.
— А Альма — позволяла?
— Альма… Альма — сложный человек. Она очень умная. Я не такая, — говорит Микела, подмигивая мне.
Трактирщица с зелеными глазами приносит нам большую миску аппетитного салата и поднос с мясной нарезкой.
— Хлеб из пекарни в Остеллато, на материнской закваске, — говорит она, обращаясь ко мне.
Действительно очень вкусный хлеб.
Хорошо бы прийти сюда с Лео. Или с Луиджи.
Улыбаюсь. Ловлю довольный взгляд Микелы: она из тех, кто рад, если ты улыбаешься.
— Какие отношения были у Альмы и Майо? — спрашиваю я. Микела задумчиво жует хлеб с колбасой.
— Они были… как близнецы. Не разлей вода. Все время вместе. Только решала все Альма. Думаю, это она посоветовала ему поцеловать меня на одном празднике, потому что я ей нравилась.
— А ты не ревновала?
— Нисколько. Альма мне тоже нравилась. Она давала мне интересные книги. Мы ходили в кино втроем и первые косяки тоже курили вместе. Нам было весело. Три — хорошее число для компании подростков. Утопическое представление об идеальном обществе.
Интересно, как Микела в роли матери? У меня такое впечатление, что она во всем видит только хорошее.
— Ты сказала, что у них дома была странная атмосфера, объясни, пожалуйста, как это?
— Не то чтобы странная, но какая–то не такая. Их родители не состояли ни в феррарском купеческом клубе, ни в теннисном клубе Марфиза. У них не было абонемента в городской театр. При этом они были людьми состоятельными, не чета моим. Мать работала в аптеке, а отец был землевладельцем. И дом у них был красивый. Но они жили как–то обособленно, ни с кем не общались.