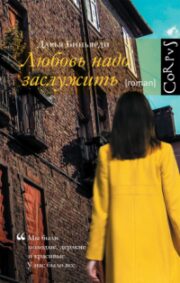У Франко своя жизнь — лекции, книги. Антония слишком быстро стала самостоятельной. Я им не нужна, они прекрасно без меня обходятся. Мы же — Майо, Микела и я, нуждались друг в друге, чтобы понять, кто мы такие.
Самым лучшим для нас стал предпоследний год, когда мы втроем были всегда вместе. Вместе в кино, вместе на демонстрации, вместе в комнате Микелы, где могли болтать часами. Вместе мы были сильны. Непобедимы.
Мы были молодые, дерзкие и красивые. У нас было все.
С Микелой я познакомилась на дне рождения у Лауры Трентини. Семья Лауры была, пожалуй, единственной, кто принимал у себя гостей не только из своего узкого круга. Отец Лауры был известным врачом, они жили в большом доме, окруженном садом, сразу за городскими стенами, часто ездили за границу и приглашали к себе друзей всех своих четырех детей. Мама Лауры была француженка, может, поэтому их семья считалась более открытой.
Феррарцы отличаются от прочих жителей Эмилии; я поняла это, только переехав в Болонью — там, пообщавшись со студентами, нельзя было не заметить: феррарцы — особенные. Я так и не поняла до конца, что скрывается за их робостью и высокомерием: неуверенность в себе или недоверие к людям. В Ферраре все спрятано, все заключено в своем, строго определенном пространстве. Замок окружен рвом с водой, центр окружен городскими стенами, сады находятся внутри и окружены домами, и даже гардины на окнах кирпичного цвета, кажется, придуманы для того, чтобы, сливаясь со стенами, хранить тайны.
Микела училась в одном классе с младшим братом Лауры. Я обратила внимание, что она смеется и танцует как человек, которому действительно весело. Я редко так веселилась, даже на праздниках.
В общем, я за ней наблюдала.
Потом показала Майо, он пригласил ее на медленный танец и все время щекотал, «чтоб послушать, как она смеется».
Потом они исчезли, и я нашла их только перед тем, как идти домой — они сидели на полу в мансарде у Лауры. Болтали, смеялись и курили. Увидев меня, Микела вскочила на ноги, подбежала ко мне и обняла: «Я знаю, ты — Альма!»
Мы гоняли на велосипедах в любое время и в любую погоду. Если у кого–то из нас были дела в центре, мы договаривались встретиться потом у грифона перед собором, чтобы поболтать, что–то обсудить, поделиться новостями. Нам это было необходимо: делиться всем, всегда узнавать что–то новое. Мы втроем, мы вместе — это целый мир. Я занималась больше, чем они, приходила к Микеле домой вечером, после шести, и видела, что губы у нее распухли от поцелуев, а у него на шее синие отметины. Но когда появлялась я, они переставали быть парой, а Майо и я — братом и сестрой: нас было трое. Трое неразлучных друзей.
Мы вели бесконечные беседы обо всем на свете: о фильмах, о книгах, о политике, о нас самих. «Мы» — вот любимая тема наших разговоров.
У Микелы был легкий характер, но при этом очень твердый. Ее родители все время работали, вот почему мы собирались у нее дома. У родителей был бар, и они вкалывали с утра до ночи, чтобы отдать долги. Этажом ниже жила семья тети Микелы, они помогали друг другу, и Микела часто обедала у них. Им тоже приходилось несладко: дядя остался инвалидом, двоюродный брат попал в общину для наркоманов, но они были очень дружны, я видела, какие у них хорошие, теплые отношения. Я часто повторяла Микеле: «Тебе все нипочем, все отскакивает, как от стенки горох». Она никогда не обижалась.
Новых друзей я так и не завела. Почему, не знаю. Задавая себе этот вопрос, я решила, что сама виновата: по натуре я одиночка, страдающая от одиночества.
Мне легко только с моими студентами. Они не могут претендовать на дружбу, и таким образом выходит, что я даю им больше, чем кому бы то ни было.
У меня нет и не было любовников. Возможно, интимные отношения стали бы решением проблемы. Но, если не считать те безумные дни, когда умирала мама, у меня не было других мужчин, кроме Франко.
Когда Винсент написал, что выходит из тюрьмы и хочет меня видеть, я представила себе, что, если я смогу возобновить отношения с ним и его братом, то жизнь моя наполнится риском, тайными свиданиями и безудержным сексом. Но я не пошла на это вовсе не из добродетели, а исключительно из страха. Не его я боялась и не их обоих, а себя, тогдашнюю.
Антония
Услышав звонок, лисичка принимается лаять, а синьора повторять «Нельзя!». Как и утром, никто не выглянул, калитка открылась сразу.
Сестра префекта встречает меня на пороге: на ней домашние туфли, в остальном одета она так же, как и утром. Безупречно.
— Это Антония, — говорю я, — дочь Альмы. Можно мне к вам, ненадолго?
— Входи, — отвечает она и, повернувшись, направляется в кухню. Собака, виляя хвостом, бежит впереди.
Вечером, при искусственном освещении, кухня выглядит более привлекательно, три светильника располагаются в стратегически важных местах: лампа около кресла, лампа над обеденным столом и торшер в углу. Телевизор выключен, но на шкафчике — открыт проигрыватель, который я не заметила утром. Внизу на полках — виниловые диски в идеальном порядке.
— Мне нравится вальс Шостаковича, который вы слушали, — пробую начать.
— Ты пришла, чтобы сказать мне об этом? — В ее глазах насмешливый огонек. Кажется, теперь она более расположена к разговору, чем утром. — Хочешь фанту?
Неожиданно. Я не пила фанту со школы, почему бы и нет? Вот уж не рассчитывала на такой прием!
Достает из буфета два стакана зеленого стекла, ставит на поднос, а из холодильника — огромную бутыль с оранжевым напитком.
— Чипсы?
— Я не против…
Откуда такая любезность? Подействовал мой новый имидж? Пожалела, что была сурова со мной в нашу первую встречу? Или, может, она рада, что я составлю ей компанию для неожиданного аперитива?
На подносе рядом со стаканами появляется большая голубая миска, щедро наполненная чипсами, и две вышитые салфетки.
Лисичка внимательно наблюдает за каждым движением хозяйки.
— Как ее зовут? — еще раз пробую спросить, кивая на собаку.
— Мина, — отвечает мне на этот раз.
— Хорошая собачка, — комментирую я, изображая воспитанную девочку.
Тщательно подбираю слова, боюсь, что хозяйка снова замкнется, как утром. Почему–то мне кажется, что этой пожилой даме должна нравиться сдержанность, она–то хорошо владеет собой. Отпиваю глоток фанты, беру горсть чипсов, улыбаюсь. Она отвечает мне слабой улыбкой.
— Я хотела бы спросить, какие ошибки вы имели в виду, говоря о моем дедушке? — решаюсь я.
Она не выглядит обескураженной, но какое–то время молчит, будто подбирает слова. Чуть ниже наклоняет голову и произносит:
— Я имела в виду ошибки, которые он совершил перед тем, как…
Ошибки моего дедушки Джакомо? Я‑то думала, речь пойдет об измене его жены. Чувствую себя сбитой с толку.
— Вы хорошо знали бабушку с дедушкой? — отступаю назад.
Она сидит на стуле напротив меня, скрестив тонкие ноги. Должно быть, в молодости она была очень хороша, красива той красотой, которая тогда была не в моде: высокая и худая. Аристократическая внешность.
— С твоим дедушкой мы вместе ходили в школу, мы ровесники. С твоей бабушкой я здоровалась, но никогда не заговаривала. После истории с моим братом перестала здороваться.
У нее прямая спина, однако в ее облике нет ничего от утренней суровости: сейчас это просто сдержанность и элегантность. Я могла бы спросить, что это за «история с братом», но боюсь сбить ее с мысли, рассердить.
Во взгляде этих голубых глаз нет ни капли враждебности.
— Как поживает твоя мама? — спрашивает она.
Думаю, настало время сказать правду.
— Она делает вид, что все хорошо, хотя это не так. Совсем недавно я узнала об исчезновении Майо и самоубийстве дедушки: раньше мама никогда об этом не рассказывала. Я знала только, что все умерли. Сейчас я многое понимаю, даже понимаю, почему мама все время такая задумчивая. Я приехала в Феррару, чтобы узнать больше, чтобы разобраться. Могу я спросить, как вас зовут? — теперь, когда я сказала правду, я больше не могу думать о ней как о старушке с собачкой или сестре префекта.
Смотрит на меня любезно. Благородная — вот верное для нее определение.