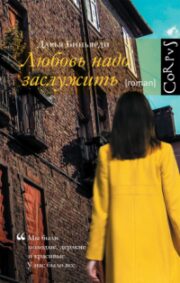— По правде говоря, это я позвонила тебе, чтобы узнать, во сколько мы встречаемся, ну да ладно… Что ты хотел?
Вообще–то я не жалуюсь на отца. Наши отношения построены на взаимной привязанности, дружбе и уважении. Он научил меня быть независимой. И это правильно.
— Обожемой! Ничего, просто спросить, как ты там, в Ферраре, чем занимаешься, что узнала. Ты же моя Пентесилея, — ворчит он, будто рассержен. Но я‑то знаю, он никогда не сердится.
— Твоя Пентесилея плохо кончила. Можно, я буду, например, Брадамантой? Кажется, это от нее ведут родословную те самые Д’Эсте, которых чтят здесь, в Ферраре?
— По–моему, у тебя мания величия. При чем тут Брадаманта? Мне кажется, мы не препятствовали тебе выходить замуж за твоего Руджеро… — шутит он.
— Во–первых, я не замужем, а во–вторых, ты и мама и так не слишком бурно радовались моему Руджеро… если о нем речь…
Не знаю, почему я воспринимаю все это всерьез. Какой–то странный вечер. И эта комната странная.
Она как бы зависла во времени и пространстве.
— Подумать только! Сегодня что, день упреков? На тебя так подействовал воздух Феррары? Хорошо, ты будешь моей Брадамантой. А что до твоего Руджеро… потерпи… для таких родителей, как мы, было немного… неожиданно породниться с полицейским. В молодости мы против них выступали. Но Лео мне нравится, и, думаю, ты это заметила.
— В некотором роде… а знаешь, что теперь он и маме понравился? Они встречались уже два раза, она сказала тебе?
— Мы мало с ней говорили, виделись только утром, а ты же знаешь, что утром я…
— Молчишь, да, знаю. Они встречались в обед вчера и сегодня.
— Вот видишь, мы готовы подружиться с Руджеро!
— Папа…
— Что?
— Мне только что сказали… не могу поверить… неужели мама ничего не знает, а если знает, почему скрывает от нас?
— Это касается ее брата?
— Нет, о Майо пока удалось узнать немного. Здесь другое, давняя история…
— Что ж, выкладывай.
Вздыхаю. Единственный недостаток этого великолепного салона — слышен шум машин за окном.
— Ты знал… что бабушка и дедушка Альмы со стороны отца… погибли в нацистских лагерях?
— Что?!
Обычно Франко невозмутим, но сейчас в его голосе смятение.
— Ты не знал?
— Конечно нет. Кто тебе сказал? И Альма ничего не знает, я уверен.
Мой отец всегда сомневается, и сейчас меня удивляет его уверенность.
— Мне рассказала сегодня их соседка. Старушка, что живет напротив, она ходила в школу вместе с дедушкой Джакомо. Тоже еврейка, как и он.
— Альма говорила, что ее отец был атеист, ну, праздновал Рождество ради жены, что–то в этом роде. А если это какая–то ошибка, заведомая ложь, фантазия?..
— Не думаю. Ты ее не знаешь, у нее совершенно ясный рассудок, и, мне кажется, ей незачем врать. Я уверена, что это правда. Она сказала, что Джакомо крестился, чтобы жениться на бабушке по церковному обряду. И добавила, что нельзя оправдать такой выбор, если твои родители погибли в концентрационном лагере.
Франко молчит. Мне жаль, что пришлось рассказать ему это по телефону, но он единственный, с кем я могу сегодня поговорить. С мамой лучше обсудить при встрече. Понять, почему она все эти годы ничего нам не рассказывала.
— Невозможно, чтобы она ничего не знала, папа. Если твои дедушка и бабушка были замучены нацистами, ты не можешь не знать, тем более в таком городе, как Феррара. Даже если ее отец это скрывал. Сколько феррарских евреев никогда не вернулось домой? Пятьдесят? Сто? Ну, пусть двести, думаешь, если твой дед погиб в лагере смерти, ты не узнаешь об этом? Есть же дни памяти, торжественные мероприятия, исследования, в конце концов…
— Ты права, очень странно. Разве что…
— Что?
— Альма была подростком в шестидесятые. Такое было время — политическое, революционное, не до воспоминаний… Она уехала из Феррары совсем юной, уехала навсегда. По–моему, даже очень возможно, что она ничего не знает и не знала, а родители решили ничего не говорить ей об этом.
— Завтра буду искать доказательства.
— Сходи в библиотеку, там все найдешь: количество депортированных, погибших. В Ферраре есть даже еврейский музей, когда–то я там был. И читал, что недавно открыли национальный музей Холокоста или что–то в этом роде, можешь и туда сходить…
— Хорошо, профессор, будет сделано. Впрочем, я все найду в интернете.
— Не думаю, что все, дорогая.
— Может, и не все, но определенно быстрее. Папа…
— Да, Антония.
Я не привыкла откровенничать с отцом, но вообще, все это так странно.
— Почему в нашей семье столько трагических смертей? Дедушка с бабушкой… теперь еще и прадедушка с прабабушкой. Знаешь… впечатляет.
Грустно, если сказать точнее. Просто не хочу признаваться, что мне грустно.
— Я понимаю, ни о чем не подозреваешь, и вдруг такое… могу себе представить, как ты расстроена. Трагические смерти — это полотно истории. Вспомни «Энеиду»…
Нет, только не «Энеиду»! Не сейчас!
— Не хочу ничего слышать ни про «Энеиду», ни про «Неистового Роланда». Ни у кого из моих знакомых нет такой ужасной семейной драмы. Да и ты тоже как…
— Как кто?
— Как эмигрант, не знаю… как беженец. Я никогда не видела никого из твоей семьи, разве что двоюродных братьев из Турина.
— Уверяю тебя, все прозаично, все умерли от болезней, если тебя это успокоит. Твой далеко не молодой отец был единственным сыном своих родителей: все, родословное дерево засыхает.
— Папа…
— Да?
— Ты действительно думаешь, что это нормально — в тридцать лет узнать, что твой дед покончил с собой, дядя исчез, а прадед и прабабка с дочерью, сестрой деда, погибли в концлагере?
— Разве я сказал, что это нормально? Я такого не говорил.
— Их звали Амос и Анна. И Ракеле. Нужно придумать другое имя для Ады. Хватит уже этих «А».
— Ты права. Назови ее Брадамантой…
— И ты туда же!
— Что?
— Один знакомый, он предложил имя Ариосто, если родится мальчик…
— Прелестно! А кто это?
— Комиссар полиции, неаполитанец.
— Еще один комиссар? У тебя какая–то мания… И снова ему удалось свести диалог к шутке.
— Как у тебя получается не принимать все всерьез?
— Я тридцать лет живу с персонифицированной драмой, научился.
Ну уж нет! Этого я ему не прощу.
— Вообще–то мне кажется, она действительно пережила в своей жизни тяжелые моменты, и потом, рядом с таким, как ты, любой начнет драматизировать, просто в пику тебе, извини, что я это говорю. Знаешь, я тоже стараюсь, как ты, не сгущать краски, но это уж слишком…
— Я же сказал, сегодня — день упреков. Знаешь, надо отметить в календаре…
— Вот видишь? Ты или шутишь, или умничаешь, или показываешь свой рационализм. По–другому ты не умеешь.
В трубке тишина. Должно быть, я его уязвила.
— Как по–другому? О чем ты, Антония?
— Порыв… эмоциональность… сопереживание… Мне кажется, мама чувствует себя очень одиноко.
На этот раз молчание затянулось.
Затем он продолжает прежним тоном:
— Я делаю все, что могу, Антония. Стараюсь быть рядом, когда это нужно. Понимаю, что ты очень расстроена и даже напугана сегодня. Но какой смысл в том, что я скажу тебе «Бедняжка!» или попытаюсь тебя утешить? Я думаю, что шутить или рационально объяснять — единственный способ поддержать тебя… Что бы ты хотела от меня услышать? Чего тебе не хватает?
— Не знаю, папа. Наверное, хотела бы поплакать. Обнять тебя. Как нам теперь быть с мамой? Я не могу рассказать ей по телефону про эту историю. Не говоря уж о том, что я вообще ничего не понимаю… Я хотела лишь узнать, жив ли Майо, а если умер, то как, но вдруг узнаю такое… это я еще не все рассказала!
— Есть еще что–то?
— Да, и ты скажешь, что это — мелодрама.
— Выкладывай.
— Получается, что Майо — сын не дедушки Джакомо, а любовника, который был когда–то давно у бабушки Франчески. Их отношения закончились еще до рождения Майо. Он был префектом и жил по соседству. Это брат синьоры, с которой я сегодня встречалась.
Франко молчит.
— Почему ты ничего не говоришь?