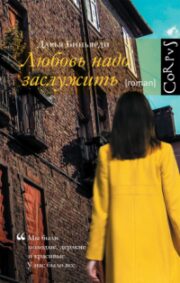— Вашей маме повезло, — добавила она.
Впервые в жизни слышу подобное.
Я переночую у папы, а Лео поедет сразу на работу. Он довозит нас до подъезда. Мы не разговариваем, но думаем об одном: что, интересно, напишут газетчики, если узнают, что пешеход, сбитый после перестрелки в Пиластро, — теща комиссара Капассо. К счастью, мы не женаты, возможно, они ничего не узнают. Лео выходит из машины вместе с нами, целует меня, обнимает Франко. Улыбается панкам, которые день и ночь тусуются вместе с собаками рядом с родительским домом.
Франко — нет, сегодня он не улыбается.
Медленно поднимаемся по лестнице. Заслышав наши шаги, навстречу бежит Рыжик. Франко, не раздеваясь, проходит в ванную, насыпает в миску корм и открывает кран с холодной водой. Рыжик у Альмы привык пить воду только так и по–другому не хочет. Когда я жила с родителями, не замечала, какая же маленькая у нас квартира, темная, беспорядочно заваленная книгами. Я ощущала тесноту, хоть и не признавалась себе в этом. Здесь я выросла, это мой дом, но мне всегда хотелось поскорее сбежать отсюда.
Франко наливает в кастрюлю воды, зажигает газ. — Что ты собираешься делать? — спрашиваю я, снимая сапоги и плащ.
Пол ледяной. Холодно, а я все в том же платье, которое надела на ужин с Лео, даже не успела зайти в гостиницу переодеться, все мои вещи остались в Ферраре.
— Сам не знаю, приготовлю макароны, или чай, или горячую грелку Твоя мать — единственная, кто может свести меня с ума.
Он шутит, значит, ему лучше. Дома он пришел в себя.
— Дашь мне свитер и шерстяные носки? — спрашиваю я. — Мне холодно.
— Мои или мамины?
— Пойду, сама поищу.
В комнате у Альмы, как всегда, беспорядок. С тех пор, как я не живу с ними, Альма и Франко спят в разных комнатах. В комнате Альмы книги лежат штабелями на всех поверхностях: письменный стол, полки, комод — всюду. Кровать заправлена, но подушки небрежно брошены в изголовье, одна на другую, будто Альма читала перед уходом. Перед тем, как отправиться в Пиластро, бог знает зачем.
На кресле свалены свитера, майки, колготы, домашняя одежда. Именно то, что мне надо. Вынимаю из кучи носки, трико, свитер. Трико слишком длинное, а свитер обтягивает живот, но зато тепло и удобно. Так и лягу спать.
Третий час ночи. Иду мыть руки, а потом к Франко на кухню. Он заварил ромашку: на столе две чашки и коробка с печеньем.
— Будешь молоко? — спрашивает он. — Горячее молоко с медом?
В детстве мама готовила мне молоко перед сном. Обычно я мало ела за ужином, а потом в постели просила поесть.
Франко говорил: «Уже поздно, какая еда!» А Альма отвечала: «Да, но голодная она не уснет, я сделаю ей горячее молоко».
Горячее молоко было предлогом похрупать печенье, и они оба знали, точнее, мы все трое об этом знали.
— Пожалуй, да, — отвечаю я.
Я так устала, у меня совершенно нет сил, и я до конца не верю, что все это происходит со мной, но не отчаиваюсь. Молча съедаем все печенье из коробки, я — с молоком, он — с настоем ромашки. Обнимаемся.
— Идем спать, папа.
— Да, да, конечно.
И никаких цитат из «Энеиды». Впервые вижу отца таким.
Смотрю ему вслед, он идет в комнату, которая раньше была моей, за ним бежит Рыжик. Я ложусь в мамину постель, простыни хранят ее запах — французские духи с ароматом туберозы, одна из немногих ее слабостей.
Думаю об Аде. Как бы мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и я могла бы сосредоточиться только на моей девочке. Сегодня начинается отсчет двадцать четвертой недели. «Ты весишь уже восемьсот граммов… Расти, кроха» — говорю я ей и проваливаюсь в глубокий сон.
Проснувшись, несколько секунд соображаю, где я.
В квартире тишина, слышно лишь приглушенное тиканье невидимых часов. Кое–где, как у моих родителей, еще остались механические часы, которые часто спрятаны в ящиках стола, например.
Ощупываю ночной столик в поисках своего мобильного телефона и неожиданно нахожу телефон Альмы: она оставила его, значит, уходила ненадолго или просто забыла. Телефон выключен, я не знаю ПИН-кода, иначе посмотрела бы, кто звонил ей перед уходом, — это могло бы прояснить ее намерения.
В моем телефоне два сообщения. Первое отправил Лео в семь утра: «Задержан киллер, мелкая сошка. Посплю пару часов. Звонил в больницу, все в порядке, она будет в реанимации до позднего вечера или до завтра. Люблю тебя». Другое — от Луиджи, короткое: «Я знаю, если нужно, я здесь».
Как же он узнал, интересно?
Ну, конечно, он же полицейский, он все знает. Встаю и первым делом иду в туалет. Ада проснулась, брыкается. Папа на кухне при полном параде, готов уходить. На столе — кофейник и чашка.
— Доброе утро, ты куда?
— В клинику. Я сварил кофе. Как ты?
— Лео сказал, что мама будет до вечера в реанимации.
— Все равно, лучше я поеду, подожду там, почитаю книжку. Ты справишься одна?
— Поеду за вещами в Феррару, я все бросила там. К ужину вернусь.
— На чем поедешь?
— На поезде. Это меньше часа, но если хочешь, останусь с тобой.
— Зачем? Сторожить мой хладный труп? Не представляешь, дорогая моя, как я намаялся с ней, с твоей мамой.
— Вижу, тебе лучше.
Кажется, он снова стал самим собой, хотя словечко «маяться» я слышу от него впервые.
— Лео прислал сообщение, арестовали человека, который стрелял. Интересно, что Альма там делала, папа?
— Может, встречалась с кем–то из студентов, с подругой… совершенно не представляю.
— Подожди, я схожу в туалет, выпьем вместе кофе. У тебя есть обычная вода?
— Только из–под крана. Иди, я подожду.
Вернувшись, застаю Франко за чтением болонской газеты, кофе налит в стаканы для воды.
— Что пишут?
— Вот что: «Сбит пешеход — пятидесятилетняя, преподаватель университета, проходящая мимо бара в тот момент, когда выстрелом был убит молодой человек, уроженец Сан — Ладзаро. Потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии».
— Знаешь, папа, она не случайно там оказалась.
— Почему ты так думаешь?
— Ну, так. Лео расследует преступление, самое серьезное в Болонье за последние лет десять, все газеты пишут о событиях в Пиластро. Альма в этом районе никого не знает, никогда здесь не была, но случайно проходит как раз перед тем баром, где совершено четвертое убийство?
— Не могу придумать никакого объяснения. А ты что скажешь?
— Я тоже ничего не понимаю, но только это не случайно.
— Мы всё узнаем, когда Альма придет в себя.
— Какой ужасный кофе!
— Обычно мама варит… Я пойду, Антония. Мне будет спокойнее, если я ее увижу.
— Если что–то узнаешь, позвони мне. Кстати, ты не знаешь ПИН-код ее мобильного?
— Нет.
— Она его оставила дома.
— Такое и со мной бывает.
— Сейчас не забудь!
— Антония?
— Что?
— Ты в порядке?
— В полнейшем.
— Вижу. Ты — как она.
— В смысле?
— Твоя мама переживает из–за экзистенциальных проблем, но, когда возникает конкретная опасность, она превращается в амазонку.
— Да, это правда, в детстве…
Он прерывает меня:
— Все, что ей пришлось пережить… другой бы на ее месте сломался, а она, несмотря ни на что, тебя вырастила. Ты ведь знаешь, что амазонки уродовали себе грудь, чтобы удобнее было сражаться… Была у них такая склонность к членовредительству. Ну, я пошел.
— Подожди…
— Что?
— Знаешь, о чем я подумала? По–моему, неправда, что Альма себя не любит, просто она не умеет эту любовь выражать.
Франко, улыбаясь, застегивает плащ и идет к выходу. В дверях оборачивается:
— Пока, Брадаманта!
Если поеду на скоростной электричке, буду в Ферраре в полдень, успею собрать вещи и вернуться домой к вечеру Когда еще смогу приехать туда, неизвестно, лучше сразу поговорить с Микелой. Франко прав, сегодня я чувствую себя воительницей. Если Микела что–то знает, сегодня она мне все расскажет.
Надеваю свое светлое платье, сапоги, открываю шкаф Альмы. Черные брюки, блузки, ее синий пуховик, замшевая куртка, которую она ни разу не надевала и которая всю жизнь висит в этом шкафу, новое пальто из верблюжьей шерсти.