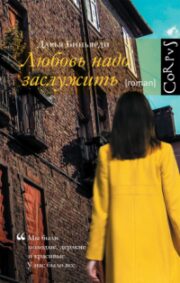— И ты так никому ничего и не рассказала за все эти годы? — шепчу я.
— Никому… но Изабелла, кажется, поняла. Может, случайно прочитала одно из писем. Она никогда ни о чем не спрашивала, лишь однажды намекнула, но я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. Я умею хранить секреты. По крайней мере, думаю, что умею.
Микела смотрит на меня с беспокойством, словно боится. Чувствую, ей нелегко было нарушить свой уговор с Майо.
— Как ты могла ничего не сказать Альме? Это его сестра, она осталась совсем одна.
— Майо просил меня не говорить.
— Вы встречались?
— Один раз, в Мадриде. Мы переписывались.
— И как он жил?
— Хорошо. Работал с одним испанским техником по спецэффектам, который потом перебрался в Голливуд, иногда ездил к нему в Лос — Анджелес. В последние годы у него появилась подружка, Флор, она жила в Фуэртевентура, и он часто бывал у нее. Флор и сообщила мне, что он умер.
— А как же Альма? Ему было неинтересно, как она живет? И как он исчез? — Я непроизвольно повысила голос.
— Мы об этом почти не говорили, — отвечает Микела шепотом, повернувшись ко мне и делая знак говорить тише.
— Не говорили?! Разве вы не дружили все втроем? Ему была не интересна сестра? А тебе? — продолжаю я свое.
— Антония, Майо был не такой, как все. Он был… другой. — Микела, кажется, теряет терпение. — Он был свободен. И говори тише, а то придет монахиня. Скажем тогда, что хотим посмотреть могилу Лукреции Борджиа.
— Я не могу, Микела, мне нужно в Болонью, к Альме. Я хочу узнать только, как он умер и как ему удалось исчезнуть.
— Умер от инфаркта, мне сказала Флор спустя несколько месяцев, никто не знал, что у него больное сердце.
— Ты уверена, что это правда? А если это очередная ложь?
— У него не было причин снова инсценировать свою смерть, через двадцать лет после «воскрешения». Он знал, я его никогда не предавала.
— Как ему удалось исчезнуть той ночью?
— Он написал мне письмо. Если хочешь, я дам тебе почитать, оно сохранилось.
— Когда? Мне нужно бежать к Альме.
— Вернусь домой, сканирую и отправлю тебе по электронной почте. Это все, что я могу сделать, Антония!
Я встаю, смотрю ей в лицо, она не отводит глаз, выдержав мой взгляд.
— Отправь сразу же, как сможешь, — говорю я, сжимая ее плечо. Чувствую ее торчащие тонкие кости. Воробьиные косточки.
Надо спешить домой. Альма скоро проснется. Как рассказать ей про Майо?
Дождь перестал, но на улице по–прежнему пустынно и тихо.
Я размышляю о кавалерах, которые сражались у этих стен на дуэлях семьсот лет назад. О Святой Екатерине, решившей прорубить дверь в задней стене церкви. О Майо, который звонит из Мадрида и узнает, что у него больше нет семьи.
Нельзя устраивать дуэль перед церковными воротами. Нельзя бросать сестру, оставшуюся сиротой.
Если я потороплюсь, успею на пятичасовой поезд.
Я сижу уже больше часа в коридоре с ореховыми стенами, ожидая, когда там, за стеклянной дверью, проснется мама.
Десять раз проверила почту в телефоне, но Микела пока не прислала ничего. Перечитала последнее письмо, адресованное Лео, в котором я рассказывала ему о нашем разговоре с Лией Кантони. Размышляю, как меня сбила с толку фраза об ошибках, за которые приходится платить — я полагала, что это намек на бабушкину измену, а потом Лия объяснила, что бабушка ни при чем, что она имела в виду крещение Джакомо. Тогда я не поняла, что вся эта история имеет ко мне самое прямое отношение.
Я до конца не верю в разгадку тайны Майо. А вдруг это очередная ложь? Может, он еще жив? Может, он решил разыграть очередное свое исчезновение, не будучи до конца уверенным, что Микела — единственный его свидетель — его не предаст? Все–таки история дедушки и бабушки оставила заметный след в жизни маминой семьи. Мне нужно поговорить с Лией. Сейчас время ужина, но я знаю, что еда для Лии далеко не главное, поэтому можно звонить смело. Лия отвечает после первого гудка.
В трубке слышна фортепьянная музыка, не могу понять, что именно. Голос Лии по телефону кажется моложе. Она уже в курсе событий.
— Антония? Спасибо, что позвонила. Как Альма? Я прочитала в газете, что ее сбили, — говорит она со своим неповторимым феррарским акцентом.
— Ей сделали операцию, все прошло хорошо, я в больнице, жду, когда она придет в себя после наркоза.
Я вышла из коридора на аварийную лестницу, чтобы никому не мешать. Из сада доносится запах мокрых сосен. В Болонье тоже весь день идет дождь, но тумана нет. В воздухе разлито приближение весны. Молодой медбрат в красном пуховике, накинутом поверх белого халата, курит, прислонившись спиной к перилам. На голове у него беспроводные наушники, он приветственно машет мне рукой и продолжает курить и слушать музыку, покачивая в такт головой.
— Ну, хорошо. Я беспокоилась и за нее, и за тебя, — говорит Лия.
— За меня? — удивляюсь я.
— Беременным нельзя волноваться.
Значит, она заметила, но почему–то ничего не сказала.
— Ты думала, я не заметила? — усмехается Лия. — Заметила, просто не стала комментировать, ты бы подумала, что я — одна из тех дотошных старух, которые повсюду суют свой нос…
«Про вас можно подумать все что угодно, только не это, скорее, наоборот… ” — хочется мне ответить.
С тех пор, как Альма в больнице, я стала все больше походить на мою Эмму Альберичи. Эмма — прямолинейная, конкретная. Она ничего не боится, не болтает о проблемах, а старается их решить. Я всегда мечтала быть такой, как она.
— Интересно, какой антоним к слову «любопытный»? — спрашивает Лия, и я не пойму, шутит ли она или говорит серьезно.
— Может быть, безразличный? Я хотела вам сказать, кажется, я поняла, что вы имели в виду, когда говорили об ошибках, за которые надо платить. Думаете, мой дед покончил с собой из–за… лучше вы мне ответьте.
Лия откашливается, шепчет Мине «нельзя!», хоть лая и не слышно.
— Я и сама до конца не понимала, пока ты не спросила. Я всегда была уверена, что Джакомо сделал неправильный выбор, но никогда не задумывалась, что он первый и заплатил за все. Все выжившие в нацистских лагерях чувствовали себя виноватыми, а каково было ему, ведь он не попал туда лишь по чистой случайности… Думаю, он очень страдал и хотел защитить своих детей от этой трагедии. Мы все судили о нем… слишком поверхностно, — говорит Лия.
Поразительно! Сколько лет этой женщине? Почти девяносто? А она так рассуждает. Я совершенно изменила свое мнение о ней.
— Никто из нас не спрашивал себя, почему твой дедушка всегда в депрессии. Но если внимательно посмотреть на то, что с ним произошло, понять было несложно. Он так и не смог изжить эту травму, хоть и женился, завел семью… — продолжает она. И добавляет: — Многие выжившие покончили с собой, вспомни Примо Леви. Настоящие ветераны — не те, кто остался в живых, а их дети. Выжившие, они… как живые мертвецы. Мы все знаем это, пусть и не признаем. Джакомо был не просто оставшимся в живых, он всю жизнь балансировал на краю пропасти и, когда Майо пропал, сорвался.
Слова Лии — как подтверждение моим догадкам: никто, очевидно, кроме жены, не понимал, какой ужас творился у Джакомо в душе.
Слушая Лию, замечаю, что медбрат в красном пуховике снял наушники и посматривает на меня, словно ждет окончания разговора.
Я смотрю на него вопросительно, знаками он показывает: «Мне нужно с вами поговорить, не торопитесь, я подожду», потом отворачивается и тушит сигарету о край перил. Вижу, что бычок он заворачивает в бумажную салфетку и кладет в карман.
— Я хотела бы приехать к вам после… а может, и до, вместе с Альмой! — завершаю я разговор с Лией. Почему–то не могу сказать, «после рождения ребенка», не знаю почему.
— Я буду рада, — оживляется Лия. — Передавай маме от меня привет, скажи… Нет, ничего. Передай привет, и все. Пока, Антония! Спасибо, что позвонила.
Слышу, как залаяла Мина.
— Спасибо вам, Лия.
Медбрат понял, что мой разговор закончен, оборачивается. Молодой, черные кудрявые волосы, четко очерченные нос и подбородок.
— Вы — дочь профессорши? — улыбаясь, спрашивает он, акцент выдает в нем южанина.
— Да, я дочь той женщины, которую вчера сбили.