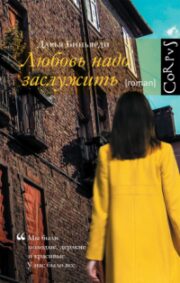Я сдержала обещание. Бросила даже курить косяки, настолько мне было плохо. Майо после каникул попробовал снова. Однажды вечером, ничего мне не сказав, пошел искать отраву. Как при укусе змеи, яд проник глубоко и подействовал. Никто не знает, от чего это зависит, — загадка. У меня было противоядие, у него — нет.
Месяц он кололся раз в неделю, по субботам. Мне сказала об этом Микела.
Я не хотела, не могла поверить. Я была напугана, но еще больше — рассержена. Пробовала говорить с ним, но он отмахивался, отвечал, ерунда, ничего страшного, не бери в голову. Потом каждый день. Мама заметила, стала давать ему метадон. Она никогда не теряла самообладания. Как ни странно, но то, что проблема в какой–то степени была ей знакома: ведь ребята приходили в аптеку за шприцами, — только усугубило ситуацию. Мама не расстраивалась, не паниковала. А он принимал метадон утром, а вечером кололся. И привыкание наступило еще быстрее.
Мы не знали, как сказать отцу. Он думал, что Майо устает в школе. Я готовилась к выпускным экзаменам, по–прежнему встречалась с друзьями, но радость померкла. Когда в семье серьезная проблема — это тягостное молчание, вечная тревога, пустота, которая скребет в желудке, постоянное недомогание.
Я злилась на Майо, на родителей, на всех. Считала, что это несправедливо. Я же хотела только пошутить тогда, вечером, в начале лета. Мне всего восемнадцать. Это просто–напросто глупая выходка, как было однажды, когда мы в горах напились граппы. Если он меня любит, он не может так со мной поступить. Это несправедливо. Мама говорила, что он вылечится, что она знает много случаев. Отправила его к психологу, но Майо, закончив сеанс, бежал колоться. «Из–за этого придурка мне только хуже», — так он мне сказал.
Он очень изменился. Если был под кайфом, без конца болтал, говорил какие–то глупости, если нет — молчал, смотрел в одну точку, зрачки расширены. Думаю, чтобы покупать «дурь», он ею и приторговывал. Уходил из дома в два, сразу после обеда, и возвращался в восемь вечера. Перестал учиться и часто прогуливал школу. Я так на него злилась, что не хотела с ним говорить. Он стал совсем другим, и я терпеть его не могла. Ненавидела и его предательство, и свое чувство вины.
Как–то на ужин мама приготовила куриные эскалопы. Отец положил себе добавки, потом посмотрел на тарелку Майо — тот ни к чему не притронулся, и сказал:
— Почему не ешь? Не хочешь? Ты же так любишь эскалопы.
Я не могла больше сдерживаться. Я взорвалась:
— Папа, он уже давно ничего не ест! Как ты раньше не замечал?!
Отец посмотрел сначала на меня, потом на Майо, потом перевел взгляд на маму.
— Что происходит? Ты заболел, Майо? Франческа, скажи мне правду.
И мама наконец–то произнесла:
— Джакомо… У Майо проблема, наркозависимость… но мы справимся. Я как раз ищу общину…
Майо попробовал улыбнуться и сказал:
— Простите, мне очень жаль. Все не так плохо, просто я действительно не голоден.
Он чесался. От него несло табаком и еще чем–то прогорклым. Он был под кайфом, и я знала, что он страдал от этого, но не так, как я.
Ему было наплевать на всех нас.
Отец встал из–за стола, подошел к Майо сзади и обнял его за плечи.
Майо остался сидеть: напряженная спина, неподвижное лицо.
Отец плакал, сжимал его плечи.
— Простите меня, — сказал он.
Потом ушел в свою комнату и упал на кровать.
Я не поняла, за что мы должны его простить, но я ненавидела его, ненавидела их всех. Маму — за то, что она ничего не сказала, и отца — за его слабость.
Почему они не рассердились, не заорали? Никто не защитил нас. Никто не защитил меня.
Это был последний раз, когда мы собрались вместе.
Не знаю, о чем разговаривали родители в тот вечер, но полоска света под дверью в их комнате оставалась допоздна. Я представляла себе маму, утешающую отца.
На следующий день была суббота, утром я ушла в школу, мама — в аптеку, отец — на собрание сельхозкооператива. Майо спал до обеда. Домработница сказала, что он проснулся, выпил чаю с печеньем и куда–то пошел. Больше мы его не видели.
Антония
— Она тебе рассказала?
Мы сидим с папой в «Диане», его любимом ресторане на виа Индипенденца.
— Да. Ты знал?
— С тех пор, как ты забеременела, она только об этом и думает. Она уверена, что раньше этого делать было нельзя.
Длинноносый официант приносит тарелку с пармезаном и нарезанной кубиками мортаделлой. Он совсем седой, я помню его с детства — красивый мужчина, всегда любезно улыбается, но имени его не знаю. Спрашиваю у отца.
— Понятия не имею, как его зовут. А зачем тебе?
— Просто так. Почему же Альма не могла рассказать мне раньше о брате и обо всем остальном? Чего она боялась?
Я часто зову родителей по именам: Альма и Франко — привыкла с детства, когда слышала их обращение друг к другу. Что интересно, так часто делают единственные в семье дети.
— Чего боялась? Многого. Тяжело узнать, что твой дед покончил с собой, а дядя без вести пропал.
— Тебе никогда не приходило в голову, что я должна об этом знать?
— Мне — приходило. Но ты же знаешь, я всегда уважал ее выбор.
— Ты думаешь, в этом есть ее вина?
Отец наливает мне немного ламбруско.
— Тебе можно пить?
— Полбокала, да.
Он наполняет маленький пузатый бокал. Вино приятное, легкое, игристое.
— Конечно нет. Так получилось. Все происходит по воле случая. Только она этому никогда не поверит, а у нас никогда не будет неопровержимых доказательств. Но, возможно, кое–что сможет примирить ее с прошлым… — По его губам скользит едва заметная улыбка. — И знаешь, что? Ты думала над этим? — пристально смотрит на меня.
Мой отец в любой ситуации остается профессором, никогда не упустит возможности порассуждать. Представляю себе пожар: «А скажи, пожалуйста, что здесь сделано из несгораемого материала?» — спросит он, когда все вокруг будет полыхать и взрываться.
Но у меня есть ответ на его вопрос, я думала над этим.
— Если я узнаю, как он пропал.
В его взгляде удовлетворение.
— Попробуешь?
Длинноносый официант приносит тортеллини. Улыбается шире, чем обычно, чувствую, спросит про мою беременность: я заметила, что его взгляд скользнул на мой живот.
Прежде чем ответить, пробую ложку ароматного, горячего бульона. Вкус восхитительный: я заметила, во время беременности вкусовые ощущения обостряются.
— Конечно, попробую.
Франко положил ложку, посмотрел на меня с улыбкой.
— Когда я был моложе, я сам хотел это сделать.
— И что тебе помешало?
Пристально смотрит на меня, а сам крутит большим и указательным пальцами правой руки кольцо на безымянном пальце левой. Старое обручальное кольцо красного золота. Я знаю, что внутри выгравировано имя моей бабушки — Франческа, а на мамином кольце — Джакомо, имя дедушки. Эти обручальные кольца — немногое из того, что мама сохранила в память о своей семье. Еще одно бабушкино кольцо — маленький сапфир с бриллиантами — она подарила мне. Я ношу его всегда. Действительно, странно: они никогда не говорили об умерших бабушке и дедушке, а носят их обручальные кольца.
— Если я скажу глупость, ты подумаешь, что твой отец сошел с ума? — спрашивает он, стараясь быть серьезным.
— Пожалуй, это интересно — хоть раз услышать от тебя какую–нибудь глупость.
— Молодчина! — улыбается отец.
Родители всегда с восторгом воспринимали мои слова, с тех самых пор, когда года в четыре я стала складывать буквы и писать на подаренной мне доске: «дом», «кот».
Будучи подростком, я начала догадываться, что мои родители не предназначены для этой роли, что им пришлось заучить ее. Они стараются, играют хорошо, правильно, но без вдохновения. Тогда я решила уйти из дома, чтобы не возненавидеть их за это.
Франко вытирает без того чистые губы большой белой салфеткой.
— Я был уверен, что только ты сможешь, ну, вроде как выполнить предназначение. Нелепое убеждение, но я его не стыжусь.
Не стыдится, а щеки покраснели.
Может, от еды или от вина.