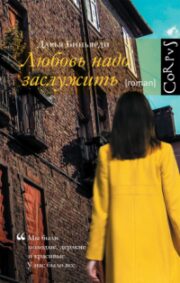По мере того как солнце садилось, менялся цвет воды и деревьев: сначала они становились блестящими, а потом — темными, почти черными.
Мы больше не обсуждали случившееся в тот вечер, когда встретили Бенетти. Иногда перекидывались фразами: как бы поскорее уехать от этой скуки к друзьям на море, но на самом деле мы так не думали, мы наслаждались каждым мгновением этих каникул, этим местом, знакомым и любимым с детства.
А в детстве у нас была любимая игра: мы мечтали сделать плот и удрать на По, как Гекльберри Финн, который отправился путешествовать по Миссисипи. На нашем пляже, на песчаной косе у плотины, мы даже построили из кривых досок нечто вроде плота. Он так и не был спущен на воду, мы просто забирались на него и играли: путешествовали, ловили рыбу, защищались от разбойников. Я была Гек Финн, а Майо — Джим, беглый негр, его приятель.
Сейчас я понимаю, что в то последнее лето, когда мы после долгих мечтаний наконец–то отправились в плаванье, не я, а Майо был Гекльберри Финном. Это он выбирал маршрут, он греб веслами и вел лодку по каналам, он планировал исследование незнакомых мест. А я во всем на него полагалась.
В последний день июля, накануне отъезда на море, мы решили полюбоваться фламинго: раньше мы отправлялись туда с родителями на машине, теперь плыли по реке.
Солнце уже садилось, и красный закат отражался в воде. Вытащив лодку на берег, мы взобрались на дамбу и увидели стаю розовых фламинго: силуэты их расплывались по воде как гигантское кровавое пятно.
Мы наблюдали за птицами, которые — из–за оптического эффекта — казались одноногими, смотрели, как они, разбежавшись по водной глади, взлетали, вытягивая вперед длинные шеи и выпрямляя лапы, похожие на выпущенные из лука стрелы.
Задрав голову, мы следили за полетом птичьего клина, пока он не исчез в вечернем небе, и только потом вернулись к лодке.
— Что вы сегодня делали? — спросил отец за ужином, к которому мы опоздали — грязные, искусанные комарами.
— Мы были счастливы, — сказал Майо за его спиной, скорчив при этом страшную рожу вампира: глаза закатились, клыки обнажены.
— Молодцы, дети, я рад за вас, — ответил отец, а мама улыбнулась.
Год спустя
Альма
Сначала я сняла книги с нижних полок, затем разобрала лежащие на полу, выкинула старые журналы, протерла пыль в книжных шкафах. Не припомню, когда я делала это в последний раз, быть может, никогда, но с тех пор, как Джузеппе начал ползать и рвать страницы всех печатных изданий, которые попадались на его пути, мне пришлось этим заняться.
Ему нравится звук разрываемой бумаги.
Дерг, дерг. При каждом рывке он заливается смехом.
Иногда Антония приводит его ко мне после обеда, а сама идет в библиотеку филологического факультета, рядом с нашим домом. Три месяца назад она вернулась к работе, говорит, что у нее «есть одна история», но все так загадочно, мы ничего не знаем. «Это будет история не про Феррару», — только и уточнила она.
В любую погоду после полдника мы с Джузеппе отправляемся на прогулку.
Наш привычный маршрут — в Сады Маргариты, где мы садимся под дерево гинкго билоба, я отрываю листик и даю Джузеппе: он сжимает в кулачке стебелек и долго, с удивлением, рассматривает его, нахмурив лобик.
Листья клена или березы не занимают его так, как гинкго билоба, я пробовала.
Если начинается дождь, мы укрываемся в баре. Джузеппе нравится сидеть у меня на руках и глазеть по сторонам. Он рыженький, и все обращают на него внимание: что–то говорят, берут за ручку, улыбаются. Он очень общительный, легко идет на контакт, улыбается в ответ. Всем улыбается — и недовольным, и нескладным, и некрасивым.
Как–то раз мы зашли в бар, где играют в бильярд, и мне вспомнилось то место, где мы с Майо сидели по утрам, когда прогуливали школу: убогий бар на окраине города. Главное, там нас не мог увидеть никто из знакомых.
Мы выбирали столик у окна, бросали как попало книги, куртки, тетради и ждали Микелу. Она выезжала из тумана на своем велосипеде, выкрашенном синей краской, останавливалась у столба и двумя оборотами цепи надежно привязывала его.
Майо выбегал на улицу помочь ей — в одном свитере, даже если было так холодно, что леденели пальцы в перуанских перчатках, которые мы тогда все трое носили. Микела была невысокого роста, она вставала на цыпочки, чтобы поцеловать Майо, и приветственно махала мне рукой из–за его спины. Я отвечала ей по другую сторону стекла, подняв руку с выставленными указательным и средним пальцами — символом победы. Таким помнится еще одно отвоеванное у школы утро, сырое от тумана, и бесконечно тянущееся время, когда мы были вынуждены скрываться в нашем «подполье», в убежище, на территории которого не действовали взрослые законы, имело значение только наше желание быть вместе.
Согревшись чашкой горячего капучино, мы с Микелой делали уроки или перебрасывались любимыми фразами из прочитанных романов, а Майо проводил время за игральными автоматами или болтал со старичками, завсегдатаями бара. Потом возвращался к нам, и мы болтали и курили. Я помню бесконечные разговоры: оживленные, восторженные, они сопровождались смехом, взглядами, легкими тычками — своеобразным проявлением нежности.
Мы никогда не говорили о том, кем мы будем, только о том, кто мы есть, чего бы мы хотели. Самое главное для нас было — жить друг для друга, проводить как можно больше времени вместе. Мы мечтали, что так будет всегда: мы втроем, и весь мир там, за стеклом.
Я снова почувствовала во рту тот вкус капучино, смешанный с запахом сигарет и тумана, и ко мне неожиданно вернулось то ощущение: так бывает, когда какой–то образ, голос, запах вызывает в тебе непреодолимое физическое желание.
С того самого времени я не пью капучино. И больше не курю.
— Все равно теперь в баре курить нельзя, понятно тебе? — сказала я Джузеппе, покрутив у его носика указательным пальцем. Он проследил за ним взглядом — справа налево и слева направо — и засмеялся.
В тот вечер, когда Антония спросила меня, смогу ли я простить их, я без лишних слов ответила — да, хотя только потом поняла, что речь шла о моих родителях, а вовсе не о Микеле и Майо. Я не стала уточнять. Мне бы не хотелось, чтобы Антония думала, что у нее настолько инфантильная мать — продолжает злиться на родителей, которых уже тридцать лет как нет на свете. Но не так–то легко простить отца–самоубийцу, даже когда тебе становится известна причина его душевной раны. И маму, ведь она все знала, но ничего не сделала, просто умерла.
Мама, она была такая добрая… Я до сих пор не могу спокойно вспоминать о ней.
Франко настаивает, что надо называть мальчика полным именем — Джузеппе Джакомо. Он смотрит на малыша с нежностью, приоткрыв рот. Когда мы возвращаемся домой и я сажаю Джузеппе на детский стульчик рядом с креслом, Рыжик растягивается у его ног. Им так хорошо вместе! Антония сделала их фотографию и разослала друзьям на Рождество.
Спросила и у меня, не хочу ли я отправить кому–нибудь фото, но потом осеклась: «Ах да, у тебя ведь нет друзей».
После рождения Джузеппе Антония ведет себя бесцеремонно, и я не могу понять, сблизило это нас или отдалило. Я вижу, что она счастлива, хоть последнее время неразговорчива, старается побыстрее сделать все дела. Думаю, это из–за ужасной занятости и вечной усталости. Джузеппе родился раньше срока, и Антония не могла кормить его грудью. В первое время она была целиком сосредоточена на том, чтобы каждые три часа, днем и ночью, стерилизовать бутылочки, готовить смеси, менять подгузники, взвешивать малыша. Неизбежные ритуалы, которые спасли мне жизнь.
Джузеппе — так звали отца Лео, — все решила Антония.
Мы с Франко ждали в коридоре, вышел Лео со свертком в руках и сказал: «Ваша дочь хочет назвать его Джузеппе, я тут ни при чем».
Мы подошли поближе: два круглых влажных глаза уставились на нас, и я вспомнила новорожденную Антонию, без волос, с красным сморщенным личиком, закрытыми глазами.
— А что, если мы назовем его Джузеппе Джакомо? Джакомо, как моего отца? — предложила я.
Я все еще не могу простить его, но могу передать кусочек отнятой у меня идентичности. Его имя. Имя библейского патриарха.