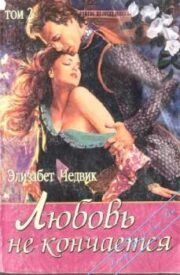Впрочем, и в самой часовне хватало контрастов: массивные арки сочетались с хрупкими на вид колоннами, ярко расписанные рельефы странно смотрелись на фоне серых каменных стен. Но эти штрихи лишь подчеркивали вкус и индивидуальность в убранстве часовни. Джулитта, прежде не испытывавшая особого восторга от церковных обрядов, сегодня, в день освящения монастыря именем святой Магдалены, вдруг ощутила невиданный прилив энергии и трепетное волнение.
Стоявший рядом с ней Моджер слушал отца Жерома так внимательно, словно в совершенстве знал латинский. Джулитта покосилась на мужа. Сегодня он надел самую нарядную рубаху и подпоясал ее алой лентой. Его ячменные волосы поблескивали в мягком свете свечей. В последнее время Моджер заметно изменился, и жизнь Джулитты стала намного легче. По-прежнему неразговорчивый, угрюмый и нелюдимый, теперь он давал жене больше свободы, чем в первый год после свадьбы, да и брачное ложе перестало служить ему ристалищем для подчинения Джулитты своей воле. Иногда она даже получала некоторое удовольствие от близости с ним. Это нельзя было назвать любовью, скорее отсутствием ненависти. Мысли о Бенедикте изредка мучили Джулитту, накатывая, словно зубная боль, и она уже научилась стойко переносить их.
Бенедикт не присутствовал на церемонии освящения, и Джулитта сама не знала, хорошо это или плохо. Что они могли сказать друг другу после последней встречи, чуть не закончившейся бедой? Она даже не попрощалась с ним, когда на следующее утро после свидания в саду уезжала в Фоввиль. С тех пор они ни разу не виделись и, похоже, не стремились к этому, побежденные здравым смыслом.
На протяжении всей церемонии собравшиеся стояли, и только Арлетт сидела на скамье напротив алтаря. Состояние больной немного улучшилось, но виной тому было не начало выздоровления, а приподнятое настроение в связи с освящением ее детища-монастыря. За последние месяцы она исхудала еще сильнее, кости выпирали из-под кожи, воспаленные глаза тускло светились.
Жизель тоже выглядела неважно. На ее хорошеньком матовом личике отчетливо выделялись темные круги под глазами — результат бессонных ночей у материнской постели. Ночей, полных беспокойства и отчаяния, потому что Арлетт становилось все хуже и хуже.
Джулитта искренне сочувствовала сводной сестре, ведь она сама потеряла мать и на собственном опыте знала, что нет ничего страшнее для человека, чем понимание того, что приходит смерть и он не может закрыть перед ней дверь.
По возвращении в Бриз Джулитта услышала от одной дамы историю о недавнем паломничестве, которое та совершила в Сантьяго-де-Компостела, что в Галисии[2], где предположительно захоронены останки благословенного апостола святого Иакова. Матильда де Вей — так звали эту даму — была очень богата и поэтому представляла собой лакомый кусочек для церкви. B довершение к своей болтливости она имела весьма звучный голос и после двух кубков вина начала трещать без умолку. Слушая ее рассказ, Джулитта то и дело прыскала, удивляясь сама себе, так как считала, что разучилась смеяться уже давно.
— Вот что я скажу тебе, дорогая, — прогремела Матильда, обращаясь к Жизели, которая невольно вздрогнула, — можешь считать, что ты еще и не жила, если никогда не совершала паломничество. Разумеется, не в Руан, а дальше, гораздо дальше. Дальние паломничества окажут самое плодотворное влияние не только на твою душу, но и на разум: ты обретешь мудрость! — Дама тяжело плюхнулась на край кровати Арлетт. Под весом ее грузного тела белье и одеяла сползли набок. От вина лицо Матильды раскраснелось и покрылось испариной. — Ну так вот! По дороге мы остановились в Тулузе, в приюте для паломников. Там один святой отец показал нам щепку от того самого креста, на котором распяли Христа. И даже позволил прикоснуться к ней. — Она многозначительно подняла указательный палец и покачала им в воздухе. — Я приложила эту щепку к своим распухшим от водянки рукам, а через несколько мгновений мои пальцы стали такими же тонкими, как в день свадьбы. Клянусь!
Джулитта про себя усмехнулась, раздумывая, почему священная щепка оказалась такой прижимистой и подарила Матильде только красивые пальцы, а не всю девичью фигуру сразу. Сколько же она заплатила за право прикоснуться к реликвии? Бенедикт рассказывал, что во время поездок не раз встречал у дорог продажных священников, похожим образом наживавшихся на наивных людях. «Я видел столько гвоздей, вынутых из тела Спасителя, что ими можно было подковать целый табун», — со смехом говорил он.
— Но это еще не все, — в запале прогудела Матильда и, порывшись в мешочке, выудила из него крохотную деревянную шкатулку, перевязанную кожаной веревочкой. — У меня есть обломок ногтя самого святого Иакова!
Пока сидящие в комнате женщины поочередно охали, разглядывая содержимое шкатулки, Джулитта наполнила кубки вином.
«Кто из нас сошел с ума: я или они? — думала она. — Интересно, кому на самом деле принадлежал обрезок этого несчастного ногтя? Разве интересно поклоняться ногтям, волосам, костям и клочкам одежды святых? Интересно, что бы они сказали, если бы им предложили, к примеру, полюбоваться на правый сосок девы Марии, которым она вскормила Иисуса? Или на левый?»
Собственные мысли и испугали, и развеселили Джулитту. Догадайся о них собравшиеся здесь кумушки, они бы непременно заперли ее в келью и посадили на хлеб и воду, по меньшей мере, на месяц!
Между тем Матильда продолжала свое повествование. Каждое ее слово падало на благодатную почву. Джулитта не могла не признать, что гостья умела произвести впечатление и завладеть вниманием слушателей. События представали перед молодой женщиной настолько ярко, что она почти ощущала на губах дорожную пыль и чувствовала горячие лучи солнца, припекающие спину. Ей начинало казаться, что это она, а не странствующие паломники отведала диковинных заморских плодов.
Даже Арлетт оживилась и с увлечением выслушивала красочные описания многочисленных церквей и часовен, в которых довелось побывать Матильде по дороге в Компостелу, стараясь запомнить имена и деяния святых и легенды, связанные с ними.
— Мне хотелось бы увидеть их своими глазами, — задумчиво произнесла она. — Но теперь уже слишком поздно, мои дни сочтены. Когда я была моложе, я мечтала… — Голос Арлетт дрогнул и оборвался. Тяжело вздохнув, она устремила невидящий взгляд куда-то вдаль.
Примолкшая из уважения к хозяйке дома, Матильда, выпив вина, снова поспешила взять слово.
— Разумеется, вам уже поздно даже думать об этом, — совершенно позабыв о приличиях, заявила она. — А вот вашей дочери… Возможно, если вы пошлете ее помолиться у мощей Иакова за ваше здоровье, он сотворит чудо и излечит вас. — Матильда мило улыбнулась изумленно хлопавшей ресницами Жизели… — Кроме того, она могла бы привезти в новый монастырь какую-нибудь реликвию и тем самым поднять его престиж. Я знаю места в Компостеле, где можно найти потрясающие вещи. Один паломник, торговец из Кана, добыл там флакончик с грудным молоком девы Марии. Только представьте, как прославится ваш монастырь, если в нем появится подобная реликвия!
Джулитта сообразила, что соски девы Марии оказались бы, пожалуй, не такими уж экстравагантными предметами для поклонения, как ей казалось.
— Простите мое невежество, — кашлянув в кулак, сказала она, — но я подозреваю, что по пути к святым местам попадается немало нечестных на руку торговцев. Как же Жизель узнает, не обманули ли ее?
Матильда обернулась и окинула Джулитту полным высокомерия взглядом.
— Там, как и везде, встречаются разные люди, дитя мое. Поэтому, прежде чем делать покупку, надо посоветоваться со священником.
— Понятно, понятно, — Джулитта благодарно закивала головой, пряча лукавую улыбку. — Значит, нужно спросить у священника.
— И прислушаться к голосу разума, — добавила Матильда, подозрительно изучая ее невинное лицо. — Это, полагаю, тоже понятно.
— Да, конечно, — ответила Джулитта, решив, что и впрямь пора прислушаться к голосу разума и воздержаться от дальнейших споров.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Бенедикт сидел в своей комнате и пересчитывал серебро, привезенное им из Улвертона. С монет на него смотрели лица монархов и правителей: Эрик-Кровавая Секира, Гарольд Годвинсон, Эдуард-Исповедник, Вильгельм-Завоеватель и наконец поблескивающий, как рыбья чешуя, лик Руфуса-Толстяка. Решив, что прослыть государственным изменником предпочтительнее, чем потерять голову, Бенедикт счел разумным не только поскорее унести ноги из Англии, но и вывезти из Улвертона основную часть имевшегося там серебра.