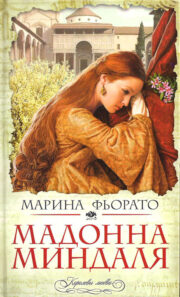— Бернардино Луини![7]
Этот крик, а точнее рев, эхом разнесся по всей студии. Разумеется, Бернардино сразу понял, чей это голос. Именно его так боялись услышать прошлой ночью Бернардино со своей новой возлюбленной, когда предавались любовным утехам в ее спальне вплоть до того утреннего часа, когда первые лучи солнца согрели наконец озябшие крыши Флоренции. Будь Бернардино честен перед самим собой, он бы, пожалуй, признался, что страх перед возможным появлением мужа-рогоносца добавил бы их страстным объятиям изрядную толику остроты — ведь сама дама его сердца красотой отнюдь не блистала, да и познакомился он с нею без особых приключений: просто увидел, как она позирует его учителю Леонардо. Впрочем, Бернардино было не привыкать к гневу обманутых мужей. С ним довольно часто случалось то, что его друзья со смехом называли mariti arrabbiati,[8] когда он в очередной раз попадался им с подбитым глазом или рассеченной губой, что, надо сказать, несколько портило его поразительной красоты внешность. Но сейчас в голосе очередного оскорбленного рогоносца было столько яда и ярости, что Бернардино мгновенно бросил кисти и оглядел студию в поисках убежища.
Повсюду, естественно, висели промасленные или натянутые на раму холсты, стояли готовые или незаконченные работы учеников, а также всегда было полно тех, кому поручили закончить работу учителя. Но, увы, спрятаться было негде. Во всяком случае, ни одной мысли на этот счет Бернардино в голову не приходило, пока на глаза ему не попалось возвышение в дальнем конце продолговатой студии. На возвышении восседала его нынешняя «любовь», с самым благочестивым видом сложив на груди руки, хотя тени у нее под глазами явственно свидетельствовали о бессонной ночи, проведенной в любовных утехах. Волосы этой синьоры, темными кольцами свисавшие вдоль щек, выглядели довольно уныло, а зеленое платье и вовсе не шло к болезненному, желтоватому цвету ее лица. Если бы у Бернардино было побольше времени, он бы наверняка снова задал себе вопрос: почему его учитель да Винчи с таким упорством рисует именно эту женщину? Она ведь не только не хороша собой, но даже и цветение юности ей не свойственно, ибо она уже успела родить двоих сыновей. Вот когда ему разрешат наконец писать женскую фигуру в полный рост, думал Бернардино, уж он-то непременно выберет себе модель поразительной красоты — настоящего ангела! — и уж так ее нарисует… Впрочем, сейчас времени на подобные размышления у него не было, зато он нашел место, где можно спрятаться. За спиной у сидевшей на возвышении матроны стояло нечто вроде округлого экрана или, точнее, трехстворчатой ширмы, которую сам же Бернардино и придумал, а потом и сделал, натянув на деревянную раму ткань и по совету учителя изобразив на ней этакий триптих: пасторальные тосканские пейзажи с деревьями, холмами и ручьями. Бернардино еще артачился, не желая рисовать подобные «картинки». Он считал себя вполне готовым изобразить человеческое тело, но Леонардо по какой-то причине давал ученику только такие примитивные задания. Ему и кисть-то еще, можно сказать, ни разу не доверили, позволяя лишь дорисовывать руки. Руки, руки, руки… У Бернардино, кстати, в этом отношении обнаружился врожденный талант, а надо сказать, что руки — это один из самых сложных элементов портрета, и старшие ученики Леонардо то и дело просили его нарисовать именно эту деталь. А вот более интересных возможностей ему еще не перепадало, если не считать крупных набросков углем на картоне — этюдов для будущих фресок, которые впоследствии писал его гениальный учитель. Впрочем, Бернардино не уставал надеяться: когда-нибудь Леонардо все же признает, что он вполне способный рисовальщик, и вознаградит его каким-нибудь более сложным заданием. Но теперь он был даже рад, что таланты его пока получили столь малое признание, ибо эта ширма ему очень даже пригодилась. Когда Бернардино бросился к возвышению, дама, сидевшая там, испуганно округлила глаза: она, разумеется, тоже узнала тот грозный голос и боялась, что кара неизбежна. Вот только бояться ей не стоило, ибо наш Бернардино храбростью не отличался. Он быстро поднес палец к губам, призывая ее молчать, и скользнул за ширму буквально за пару секунд до того, как двойные створки двери с треском распахнулись и в студию ввалился Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо.
Бернардино прильнул глазом к щели в том месте, где одна створка складной ширмы на петлях присоединялась к другой. Одного взгляда на Леонардо ему было довольно, чтобы понять, что учитель все видел — он всегда все замечал. Но хотя борода да Винчи, украшавшая его лицо, скрывала те разнообразные чувства, которые одолевали великого живописца, ничто не могло скрыть его насмешливо приподнятую бровь, когда он вновь взял в руки кисти, делая вид, что занят работой.
Леонардо да Винчи никак нельзя было назвать святым: его пренебрежительное отношение к религии граничило с ересью, так что шутники не раз смеялись над тем, как сильно он со своей кустистой седой бородой и седыми волосами смахивает на изображения того Бога, в которого сам не верит. Впрочем, подобные насмешки Леонардо совершенно не задевали, иронию и шутливое отношение к жизни он любил во всех проявлениях, именно поэтому он и прощал Бернардино его бесконечные любовные похождения. Этот юноша понравился ему с самого начала, Леонардо даже подарил ему свой знаменитый альбом набросков, известный как «Libricciolo».[9] В альбоме было пятьдесят гротескных изображений всевозможных человеческих уродств и увечий, в разное время запечатленных этим великим художником. Там, например, имелись портреты молодой женщины, у которой вместо носа были две зияющие дыры, и парня с такими огромными бубонами на шее, что казалось, будто у него три головы, а еще там был набросок какого-то несчастного существа, от природы лишенного рта, так что есть бедолага мог только через нос, всасывая пищу через особое устройство, тонкое, как соломинка, которое сам же Леонардо и изобрел. Бернардино мог часами рассматривать эти странные рисунки, впитывая мастерство и удивительную наблюдательность мастера, а учитель, поглядывая на него и благосклонно кивая, говорил:
— Видишь ли, Бернардино, когда рисуешь пухлых ломбардских красоток, следует помнить: не все, что создает природа, красиво.
Но если «Libricciolo» показывал всевозможные человеческие уродства в их естественном виде, так сказать без прикрас, то сам Бернардино, с таким восторгом рассматривавший альбом Леонардо, был столь хорош собой, что это порождало весьма непристойные сплетни о том, что этот красивый мальчик вызывает у своего учителя восторг не только эстетический. Да и зачем иначе было ему повсюду таскать за собой смазливого юнца? Вот он и в свою родную Флоренцию его притащил! А ведь парнишка еще и учеником его в Милане побыть не успел, да и вообще до этого ни разу в жизни не покидал округлой и плоской ломбардской равнины, с одной стороны ограниченной горами, а с другой — цепью озер.
Из-за ширмы Бернардино было хорошо видно, как Франческо Джокондо широкими шагами меряет студию, как он мечется, цепляя и роняя холсты своим развевающимся плащом с вышитыми на нем завитушками. Все ученики Леонардо дружно прекратили работать и во все глаза глядели на разъяренного рогоносца, однако сцена эта ни у кого особого удивления не вызывала: все понимали, что причина бешенства синьора Джокондо наверняка связана с проделками Бернардино. Правда, в данном случае и особых причин для веселья не было: Франческо явился не один, а в сопровождении двоих слуг в ливреях, украшенных фамильным гербом Джокондо, и шпаги их грозно позвякивали в такт шагам. И в случае чего синьор Джокондо, разумеется, получит поддержку всех флорентийских законников, которые с пеной у рта будут защищать его, одного из самых богатых купцов города. Наконец оскорбленный муж перестал метаться и резко затормозил перед Леонардо, слегка умерив свой пыл, что явственно давало понять, сколь презрительно он относится ко всяким там художникам и тому подобному сброду.
— Прошу извинить меня за вторжение, синьор да Винчи, — сказал Франческо таким тоном, словно уже получил от художника извинение, — но я ищу вашего ученика Бернардино Луини, жестоко меня оскорбившего.
Бернардино заметил, как при этом купец покосился на свою супругу, по-прежнему неподвижно сидевшую на возвышении с молитвенно сложенными руками. Этим взглядом, брошенным исподтишка, он напомнил молодому художнику одного из котов его бабки — такого же гладкого, толстого и опасного, готового неожиданно цапнуть или вцепиться в тебя когтями.