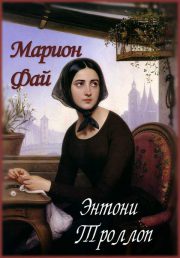Может быть, в сущности, приезд гостей есть величайшее облегчение, какое можно найти в таких несчастных, домашних распрях. После того, что было сказано, лорд и лэди Траффорд едва ли бы могли спокойно пообедать, в присутствии одного мистера Гринвуда. В этом случае разговор никак бы не вязался. Теперь же маркиз мог перед обедом суетливо войти в гостиную, чтоб приветствовать племянницу жены, не намекнув ни одним словом на утренние неудовольствия. Почти в ту же минуту появился лорд Льюддьютль, который приехал так поздно, как только было возможно и переоделся в десять минут. Так как не было никого посторонних, лэди Амальдина поцеловала своего будущего мужа — как поцеловала бы деда, — и милорд принял эту ласку, как мот бы принять любой суровый сдержанный дед. Затем вошел мастер Гринвуд с мэром и ею женой, все общество было на лицо. Маркиз повел лэди Амальдину к столу, жених сидел рядом с нею. Мэр и его жена помещались по другую сторону стола, мистер Гринвуд между ними. Еще не успели обнести суп, как лорд Льюддьютль углубился в вопрос о сравнительных достоинствах больниц для душевнобольных Шропшира и Валласа. С этой минуты и до той, когда мужчины присоединились к дамам, в гостиной разговор отличался исключительно практическим характером. Как только дамы удалились из столовой, дороги и больницы уступили место политическим вопросам, в обсуждении которых маркиз и мистер Гринвуд предоставили консерваторам почти полную свободу. В гостиной разговор тянулся вяло, пока в десять часов с небольшим, мэр, заметив, что ему завтра предстоит длинная поездка, не удалился на покой. Маркиза с лэди Амальдиной скоро последовали его примеру; минуть через пять и валлийский лорд, пробормотав что-то о писании писем, находился в тиши своей спальни. О любви не было сказано ни одного слова, но лэди Амадьдина была довольна. На своем туалетном столике она нашла небольшой сверток, адресованный на ее имя рукой милорда, в котором заключался медальон с ее монограммой «А. Л.», из брильянтов. Было далеко за полночь, прежде чем милорд выразил словами первую половину обещаний насчет ненарушимости конституции, которые намеревался сделать денбигским консерваторам. Лорд Льюддьютль почти не показывался на следующее утро, после раннего завтрака, так твердо решился он постоять за благородное дело, за которое взялся. После второго завтрака затеяли небольшую поездку для влюбленных, и занятый политический деятель разрешил себе короткую прогулку в экипаже в обществе одной своей будущей жены. Если бы он держался с ней без церемонии, он просто дал бы ей свою речь в рукописи, и ответил бы ей как затверженный урок. Но так как сделать этого он не мог, то перечислил ей все свои занятия, точно оправдывая собственную медленность в деле брака, и объявил, что благодаря имениям и парламенту, он никогда не знает, на голове он стоит или на ногах. Но когда он остановился, он все-таки не назначил дня, так что лэди Амальдина нашлась вынужденной сама взяться за это дело.
— Как вы думаете, когда ж это будет? — спросила она. Он поднял руку и потер голову под шляпой, точно разговор этот был ему чрезвычайно неприятен. — Ни за что в мире не хотела бы я думать, что стесняю вас, — сказала она с оттенком упрека в голосе.
Он действительно был искренне к ней привязан; гораздо более чем она, по самой натуре своей, могла привязаться к нему. Если б она могла сделаться его женой без всяких забот о свадебных приготовлениях или о последующем медовом месяце, он очень охотно зажил бы с ней с этой самой минуты. Для него обязательно было жениться и он окончательно решил, что это именно такая жена, какая ему нужна. Но теперь он был крепко смущен этим тоном упрека.
— Желал бы я, — сказал он, — быть младшим братом или кем угодно, только не тем, что я есть.
— Зачем бы вам это желать?
— Затем, что мне так все надоело. Конечно, вы этого не понимаете.
— Нет, понимаю, — сказала Амальдина, — но, право, надо всему этому положить конец. Вероятно, и парламент, и больницы для душевнобольных вечно будут требовать забот.
— Без сомнения… без сомнения.
— В таком случае, нет причины не назначить когда-нибудь день. Люди начинают думать, что дело это вероятно расстроилось, так как об этом так давно говорят…
— Надеюсь, что оно никогда не расстроится.
— Я знаю, что принц на днях сказал, что надеялся… Но все равно, на что он там надеялся.
Лорд Льюддьютль также слышал рассказ о том, на что надеялся принц, и снова с досадой почесал голову. Носились слухи, что принц объявил, что он давным-давно ожидал приглашения в крестные отцы. Леди Амальдина, вероятно, слышала рассказ этот в другой редакции.
— Я хочу сказать, что все удивились, что оно отложено так надолго, а теперь начинают думать, что оно совсем не состоится.
— Не назначить ли в июне? — сказал восторженный поклонник.
Лэди Амальдина нашла, что в июне очень удобно.
— Но тогда будет внесен билль об улучшении системы городских школ, — сказал милорд.
— А мне казалось, что все города давным-давно пользуются плодами школ. — Он взглянул на нее с чувством сугубого сожаления, — сожаления о том, что она так мало знала, и о том, что к ней относятся так жестоко. — По-моему, это надо совсем отложить, — сердито сказала она.
— Нет, нет, нет, — воскликнул он. — Нельзя ли в августе? Правда, я обещал быть в Инвервесе к открытию новых доков.
— Это вздор, — сказала она. — Ну какая надобность докам, чтоб вы их открывали?
— Видите ли, — сказал он, — отец мой в этом городе пользуется большим значением. Мне кажется, я взвалю это на плечи Давиду. — Лорд Давид был его брат, также член парламента и занятой человек, как и все представители семейства Поуэль, но который любил развлечься с ружьем по окончании работ в палате общин.
— Конечно, он мог бы это сделать, — сказала лэди Амальдина. — Сам он женился десять лет тому назад.
— Я его попрошу, но он очень разозлится. Он всегда говорит, что ему не следует навязывать работы старшего брата.
— Так я могу сказать мама? — Милорд опять потер себе голову, но на этот раз сделал это так, что жест его как бы выразил согласие. Невеста слегка сжала его руку повыше локтя. Посещение Траффорда, по ее понятиям, могло считаться увенчавшимся успехом. Выходя из экипажа, она еще раз сжала его руку, и он печально побрел доучивать остаток своего спича, думая о том, как приятно было бы «жить, как все».
Но лорда Льюддьютля ожидала менее приятная помеха, чем эта. Около пяти часов, когда он уже твердо заучивал конец своей речи, маркиза прислала за ним, поручив сказать, что она будет очень ему благодарна, если он пожалует к ней в комнату на пять минуть. Может быть, он будет так любезен, что выпьет с нею чашку чаю. Поручение было передано собственною горничной милэди, его нельзя было счесть иначе, как за приказание. Но лорд Льюддьютль не хотел чаю, был совершенно равнодушен к леди Кинсбёри и чрезвычайно озабочен своей речью. Он почти проклял женскую суетливость, всовывая рукопись в бювар, и последовал за горничной по корридорам.
— Как это мило с вашей стороны, — сказала она.
Наклоняя голову, он потер ее, как и всегда в минуты досады, но ничего не сказал. Она заметила его настроение, но решилась не отступать. Хотя наружность его ничего не обещала, он был известен как истый столп своего сословия. В целой Англии не было человека до такой степени преданного делу консерватизма — тому делу, успех которого зависят от поддержки тех социальных учреждений, благодаря которым Великобритания приобрела первенство между народами. Никто лучше лорда Льюддьютля не понимал, как полезно держать каждый из различных классов общества на своем месте, причем каждому требовалась честь, правдивость, трудолюбие. Маркиза отчасти понимала его характер в этом отношении. А потому, кто живее его почувствует всю горечь причиненных ей оскорблений, кто более его будет сочувствовать ей относительно негодности сына и дочери, с которыми не связывало ее кровное родство, кто скорей его поймет, как неизмеримо лучше было бы для всего «сословия», чтоб ее маленький лорд Фредерик наследовал титул и помогал сохранять учреждения Великобритании в надлежащем виде? Она совершенно перестала понимать, что намекая за возможность такого наследования, она желала безвременной смерти человеку, о благополучии которого обязана была печься. Постоянно размышляя об этом предмете, она утратила способность видеть, как мысль эта может поразить другого. Вот человек, которому в свете особенно посчастливилось, который стоит во главе своего сословия, который скоро близко породнится с ней самой, на которого она впоследствии будет иметь возможность опереться, как на крепкую трость. А потому она решилась поверить ему свое горе.