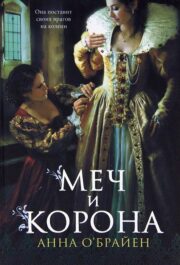Ведь эта потаскушка, Данжероса, была моей бабушкой с материнской стороны. Будучи женой виконта де Шательро, она как-то увидела моего деда Гильома во всей красе: в кольчуге, при полном вооружении, — и влюбилась в него, погрузилась в эту любовь с головой, как ныряет в морские волны птица олуша у берегов близ Бордо. Гильом тоже влюбился в нее, да так, что взял и похитил ее прямо из опочивальни (против чего Данжероса ничуть не возражала), увез в свой дворец в Пуатье, а там поселил в только что построенной башне Мобержон. Они предались безумствам любви и не делали тайны из своей греховной связи. Данжероса лишь гордо вскидывала голову, когда весь свет осуждал ее, а герцог Гильом велел нарисовать портрет дамы сердца на лицевой стороне своего щита. Он хвастал тем, что таково его желание — идти на битву, неся ее изображение, как она столь часто и охотно несла на ложе груз его тела.
Шутка в дурном тоне. Дедушка просто обожал грубоватый юмор.
Ни разу не пожалела Данжероса о своем выборе. Она была наложницей деда до самой его смерти и умела добиться от своего непредсказуемого любовника относительной верности, ибо воля у нее была железная, к тому же хитростью она обладала просто страшной. Раз уж она не могла заполучить герцога Гильома на свое ложе законным путем — пусть тогда ее дочь получит в мужья сына Гильома. Так дочь Данжеросы, Аэнора, была просватана за моего отца. Если угодно, Данжероса устроила семейный брак.
Что подумала бы сейчас обо мне Данжероса?
— Я что, такая уродина? Не вызываю никаких желаний? — спросила я у Аэлиты.
Но я и сама знала, что ответ будет отрицательным. Знала и то, что все прослышат: мой супруг решил не делить со мною ложе, он находит больше удовольствия в том, чтобы преклонять колена перед распятием, нежели в том, чтобы быть со мной.
— Думаешь, я ему совсем не нравлюсь?
— Думаю, он находит тебя слишком красивой, — проворковала Аэлита, утешая меня.
Она расчесывала мои волосы.
— Только не в замшевых штанах.
— Он мужчина. Что он в этом понимает?
— Я уж думала, он целую бурю тут устроит, покажет характер, когда я отказалась…
— Сомневаюсь, что у него вообще есть характер, — возразила Аэлита.
— Быть может, ты и права. — Впрочем, на миг мне действительно показалось, что в нем вспыхнул настоящий гнев и Людовик с трудом его сдержал… — Но почему же он не желает меня?
— Он не знает женщин. Не знает, как ублажать их. А вот его кузен сеньор Рауль не стал бы уклоняться, готова поклясться…
Я шлепнула сестру по руке, потому что она больно потянула меня за волосы, но она только рассмеялась.
— Вот уж не знаю, хочет ли он ублажать меня.
Я мрачно посмотрела на свои коленки, высунувшиеся из воды.
— Из-за тебя, Элеонора, ему не стало легче жить на свете, — сделала вывод Аэлита, и, думаю, она была права. — Ты поспорила с ним о том, как тебе ехать — как ты хочешь или как он хочет, а потом — что ты будешь носить, а что нет.
— Это было не первое столкновение. Я уже открыто воспротивилась его воле относительно того, будет ли находиться при дворе мой трубадур Бернар, — призналась я, чувствуя себя немного виноватой.
— А что ему не понравилось в Бернаре?
— Ничего не понравилось, в том-то и дело. Да ладно, у нас просто не совпали вкусы.
— И ты, еще не полный день замужем…
— Да, кажется, я была не слишком послушной женой, как думаешь?
— Ну, вот. А он принц. И не привык к тому, чтобы женщина делала ему выговоры.
Мои мысли вернулись к главному вопросу.
— Он ищет не моего общества, его влечет к Богу.
И впервые в жизни я почувствовала себя неуверенно.
— Значит, тебе придется показать ему всю глубину его заблуждений, так ведь?
Меня это не слишком утешило. Рядом со мной на подушке лежала голова Аэлиты. И утром я встала с брачного ложа такой же девственницей, какой взошла на него.
Глава третья
Нас тепло встретили нас в городе Пуатье, пока мы ехали к моему любимому жилищу — башне Мобержон, построенной некогда для бабушки Филиппы! Ни малейшего намека на мятежные настроения, которые рисовались разыгравшейся фантазии аббата. Улицы гремели радостными кликами, так что даже Людовик принужден был улыбнуться и помахать рукой в ответ на столь горячие приветствия. А толпа возликовала еще сильнее, побуждаемая к тому щедростью аббата Сюжера. Людовик не замечал, но я-то отлично видела, как жадно расхватывают простолюдины те монеты, что раздают им с телег нашего обоза — там стояли объемистые сундуки со всяким добром. Людовик принимал все приветствия как должное. Собственно, почему бы и нет? Лицо его сияло от счастья, он, облаченный в кольчугу, восседал на боевом скакуне, специально подобранном для торжественного въезда в город — поистине великолепный принц, от одного взгляда на которого горожане приходят в восторг.
Во мне шевельнулась надежда. Хоть сегодня ночью мой брак наконец свершится.
Мои придворные дамы искупали и раздели меня, уложили в опочивальне на мягкое ложе с пологом. С волнением предвкушая грядущее, я ждала. Тихий стук в дверь. Она отворилась, и на пороге наконец-то возник Людовик, почти в одиночестве — его сопровождал только аббат Сюжер. Стало быть, не будет бурной церемонии восхождения на ложе, с грубыми шуточками и смелыми намеками — впрочем, об этом я не жалела[21]. Вот только мне показалось, что аббат специально охранял Людовика, дабы тот не сбежал. На лице принца было выражение непокорности.
— Час пробил, мой господин, — тихонько проговорил аббат. — Это ваш долг перед дамой. Брак необходимо закрепить.
— Разумеется.
Людовик, укутанный в парчовую накидку, отделанную мехом, стоял, уперев руки в бока. Физиономия мрачная, как у подростка, которого уличили в каком-то проступке.
— Быть может, вы возляжете на ложе своей молодой жены, мой господин? Ну же, мой господин!
По смыслу это была просьба, однако взгляд у Сюжера был скорее повелительным, неумолимым.
Сбросив накидку на пол, Людовик осторожно двинулся к ложу. Его вид произвел на меня впечатление. Он был обнажен, как я и ожидала, и можно было залюбоваться его широкими плечами и стройными бедрами. Монастырская жизнь пошла ему на пользу: поджарый, с гладкой кожей, отлично сложенный… но явно не возбужденный.
Ну, это дело поправимое. Нянюшка, оставшаяся в Бордо, вполне откровенно объясняла, что от меня требуется. Воспитывалась я так, что мысли о плотском меня вовсе не смущали.
Аббат снова сделал нетерпеливый жест, и Людовик скользнул под простыни, откинулся на подушку рядом со мной и скрестил руки на груди. Изо всех сил стараясь не соприкоснуться со мной, оставив между нами холодное пространство с головы до пят, он громко вздохнул. Говорил ли этот вздох о его покорности неизбежному? Или о его отвращении? Кажется, он почувствовал внезапную дрожь моего тела, потому что повернул голову и посмотрел на меня. Снова вздохнул — уже легче, скорее, просто сдержанно выдохнул воздух, — и я увидела, как напряжение покидает его. Он ласково, ободряюще улыбнулся мне. Да нет, в конце концов, тревожиться мне не о чем.
— Мой господин, — не теряя времени, произнес аббат, — моя госпожа! Да благословит Бог ваш союз. Плодитесь и размножайтесь. И пусть нынче ночью из ваших чресл, мой господин, произойдет наследник французского престола.
Из своих просторных одеяний он извлек сосуд со святой водой и брызнул на нас, окропил ложе, символически подчеркивая присутствие Божие. Потом коротко кивнул Людовику с таким видом, словно собирался остаться и удостовериться в том, что дело благополучно сделано. Что ж, мы были не рядовыми супругами, которые вольны поступать, как им самим хочется: наш брак должен быть подтвержден в глазах закона.
Но моему мужу такая перспектива пришлась не по вкусу. Он запротестовал:
— Мы прекрасно обойдемся и без вашего присутствия, сударь.
— Но ведь положены свидетели, мой господин…
— Бог станет свидетелем тому, что произойдет между мной и моей женой.
— Его величество, отец ваш, будет…
— Его величества здесь нет, воли его мы не ведаем. А вот я желаю, чтобы вы нас оставили.
Неплохо! Решительность Людовика тоже произвела на меня впечатление. Аббат Сюжер с поклоном исчез из комнаты, а мы остались, обнаженные, сидеть рядом. В покое стояла полная тишина, только в камине едва слышно потрескивали дрова. Я сидела не шевелясь. Ведь инициативу должен брать на себя муж, не так ли?