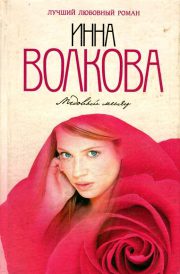Однажды вышло так, что Пашка отправился прогуляться на ночь, сказав, что ему необходимо побыть одному. Я не возражала, мы и так все время были вместе. В отличие от отца он не скрывал своих чувств и не избегал моего общества. Напротив, он искал его. И не стеснялся плакать на моей груди и говорить вслух о своем горе и своих страхах. Я чувствовала, что нужна ему, и от этого мне становилось капельку легче. Он не подозревает, какая я гадкая и порочная, он верит мне. И я не могу разрушить эту веру, не могу предать его еще раз, как уже предала однажды, не имею права. Я и не собиралась делать этого. Я просто хотела сказать Саше, что я люблю его, несмотря на все, что произошло, я все равно с ним, и чувствую его боль так же, как свою. И хочу разделить ее…
Паша ушел на улицу, я осталась одна и по выработанной за последние дни привычке шепотом повторяла молитву, обращаясь к Богу, моля его о милосердии… Мы столкнулись в коридоре, совсем как тогда, когда наша любовь вырвалась наружу. Было так же темно — хотя свет на этот раз был, мы не хотели включать свет. Я даже не слышала, как открылась дверь, погруженная в молитву и в свои невеселые мысли, и брела на кухню как сомнамбула, чтобы выпить чашку чая. Я почти не ела эти дни, кусок не лез в горло.
— Как она? — отчего-то шепотом спросила я, поравнявшись с ним в темном коридоре.
— Все так же, — ответил он погромче, обычным голосом, разве что слегка уставшим.
«Откуда он берет силы, чтобы держаться?!» — в который раз подумала я.
— Я хочу выпить чашку чая, ты будешь со мной?
Почему я так странно, как-то не по-русски, построила фразу: «Ты будешь со мной?». И между фразами «я хочу выпить чая» и «ты будешь со мной?» почему-то выдержала паузу, не специально, так получилось. Неужели я хотела спросить: «Будешь ли ты со мной по жизни? Будешь ли рядом? Не откажешься ли от меня? Не оттолкнешь?» Не знаю, услышал ли он подтекст моей почти мольбы, может быть, услышал, но не подал вида, а может, и не обратил внимания, занятый своими мыслями? Как бы то ни было, он коротко ответил:
— Да, пожалуй, буду.
Мы прошли на кухню. Молча сели за стол, я так же молча разлила чай, достала сахарницу, лимон, кекс, к которому, впрочем, ни один из нас так и не притронулся. Мы по-прежнему молча пили чай, не чувствуя его вкуса, и не смотрели друг другу в глаза. Я не выдержала первой.
— Что говорят врачи? Есть ли надежда? — этот вопрос я задавала много раз, и каждый раз слышала один и тот же ответ, который в свою очередь говорил ему врач, когда он обращался к нему с точно таким же вопросом.
— Врачи делают все возможное. Говорят, время покажет. Необходимо набраться терпения и ждать.
Но время не спешило нас радовать. Оно уходило, просачивалось, как песок сквозь пальцы, а изменений к лучшему все не было и не было… Оставалась только надежда, которая, как известно, умирает последней… Но на этот раз он ответил по-другому:
— Я не знаю. Я уже ничего не знаю! — сказал он и посмотрел на меня, впервые за то время, что мы сидели на кухне.
Его лицо было бледным и усталым, под глазами залегли тени, и мне вдруг захотелось обнять его, прижать к себе крепко-крепко, гладить его волосы, нежно шептать слова поддержки и утешения. Так было с Пашкой, он плакал на моей груди, и я сама едва сдерживала слезы, а иногда и не сдерживала, и гладила его вздрагивающие плечи. Вряд ли Саша станет плакать, но все равно, мне было так важно выразить ему свое сочувствие, даже не сочувствие, это не то слово, а передать свое ощущение свалившегося на нас горя. Обменяться взаимной болью, слить ее воедино, и тогда, быть может, каждому из нас станет хотя бы чуть-чуть легче…
— Саша! — я шагнула к нему навстречу. — Сашенька, я хочу быть с тобой рядом, просто быть! Как это делал ты, когда умерла Лиза. Мне было так тяжело, я так нуждалась в тебе! Позволь теперь, чтобы я помогла тебе. — И, протянув руку, я коснулась его плеча.
Но он вдруг так резко отшатнулся от меня, что чай в его кружке выплеснулся на стол.
— Нет, не надо! — его голос был так резок и так холоден, что я вздрогнула. Сначала я подумала, что он просто боится самого себя, боится не выдержать и высказать мне свою любовь. Любовь, отягощенную виной, привкусом боли и горечи, но все-таки любовь. Но я ошиблась. В его глазах я увидела не сдерживаемую страсть, а чувство, похожее на неприязнь, почти на ненависть. Но я не поверила этому, не хотела верить.
— Саша! — я вновь потянулась к нему, коснулась ладонью его щеки, погладила ее.
Он перехватил мою руку и резко оттолкнул ее. Я растерялась:
— Сашенька, я…
— Что ты хочешь? — резко спросил он.
— Что хочу? — я по-дурацки улыбалась и не знала, что ответить. — Пожалеть тебя! — вдруг вырвался у меня самый идиотский ответ, какой только можно было придумать. — Я хочу пожалеть тебя! — Этот ответ вырвался у меня сам по себе, помимо моей воли.
Он посмотрел на меня удивленно и неожиданно рассмеялся, недобро и надменно. Потом так же резко и неожиданно, как и начал смеяться, оборвал смех и, прищурившись, посмотрел на меня:
— А кто тебе сказал, что мне нужна твоя жалость, да и ты сама? — четко, почти по слогам произнес он.
— Но как же так, — пролепетала я. — Ведь я люблю тебя, ты мне нужен, Саша. Я знаю, что не должна этого говорить, но и молчать у меня нет сил.
— А я тебя не люблю. — Он поднялся с места и залпом допил чай. — Прости, но это так.
А потом, даже не взглянув на меня, вышел из кухни. А я, кусая губы, чтобы не разрыдаться от боли и обиды, смотрела в окно, за которым плыли по вечернему небу яркие звезды. Такие прекрасные и светлые, но такие далекие и недоступные… Я распахнула окно и, подставив пылающее лицо свежему воздуху и легкому ветру, немеющими губами старалась шептать слова молитвы…
Я говорил с ней, но она не слышала меня. А может, все же слышала? Только не могла ответить и как-то выразить свою реакцию на мои слова. Я просил у нее прощения, нет, я не объяснял, за что именно, просто говорил — «прости». Я держал ее за руку, рука ее была неподвижной, как и она сама. Я объяснялся ей в любви, может быть, впервые за долгие годы нашей совместной жизни. Не то чтобы впервые, конечно, я говорил иногда, что люблю ее, что она мне дорога, впрочем, надо признаться, редко, я не любитель подобных признаний и всегда считал, что излишняя сентиментальность для мужчины смешна и нелепа. Но сейчас мне было важно сказать ей именно эти слова, которые были так нужны ей все эти годы, я только сейчас понял это… Я всегда считал, что любовь, как и все остальные чувства, надо доказывать делами, а не словами. Но оказывается, и слова иногда важны. И именно сейчас я понял одну простую вещь: я люблю эту женщину, и никто мне не нужен, кроме нее. Никто. И она именно тот самый человек, с которым мне бы хотелось прожить всю оставшуюся жизнь и умереть. В один день и час, или нет, это уж как Бог даст… Я также думал о своих родителях, которые прожили всю долгую и тяжелую жизнь вместе. Они тоже не говорили друг другу красивых слов, в нашей семье вообще не были приняты нежности и выражение чувств. Может, поэтому я привык все скрывать. Мне казалось, что истинные чувства должны быть скрыты от посторонних глаз, находиться где-то глубоко в сердце, в душе. А если выставлять их напоказ и всем хвастаться, словно игрушкой, то они утрачивают свою ценность. Может, я был не прав. Слова, слова… Когда умерла мама, отец не плакал, по крайней мере, я не видел его слез. Он не жаловался, ничего не говорил. Несмотря на солидный возраст, он был здоровым человеком, даже врачи удивлялись и говорили, глядя на него: «У вас сердце и давление, как у тридцатилетнего, сто лет проживете, а то и больше…» Но он не дожил до ста лет. Потому что женщина, которую он любил, покинула его раньше. Единственная женщина, которую он любил в своей жизни, несмотря на то, что не всегда был ей верен, именно так он сказал в последнюю ночь своей жизни. В тот вечер он был как-то тихо радостен, словно светился изнутри, и легкая улыбка блуждала на его губах. Помню, я удивился и спросил, что с ним происходит, в чем причина такого благостного состояния? Он ничего не ответил, а только посмотрел на меня как-то по-особенному и немного хитро, загадочно, как будто знал нечто, что было мне неведомо, словно обладал неким тайным знанием. А потом вдруг обнял меня и поцеловал, и сказал, что любит меня и гордится мной, что я молодец и он может быть за меня спокоен. Я тогда очень удивился, подобные нежности были ему несвойственны. И смутная тревога сжала мое сердце. Я пожелал ему спокойной ночи и ушел спать. А когда наутро пришел будить его, чтобы позвать к завтраку, он был уже мертв… Его лицо было совершенно спокойным и безмятежным, просветленным, он словно говорил мне: не надо слез, не надо грусти, я ухожу счастливым, потому что могу быть спокоен за тебя, ты не подведешь меня, и потому что ТАМ я встречусь с женщиной, которую люблю, единственной женщиной, которую я любил всю свою жизнь…