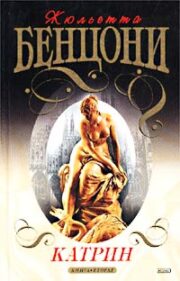Жан де Сен-Реми долго не мог понять, почему юный конюх, так нелюбезно встретивший его, проводил его со слезами благодарности на глазах.
Мнимый монах ушел. Трое узников маленького дворца поняли, что он унес с собой часть их страхов и тоски.
Последующие дни показались тревожными и бесконечными. Катрин изо всех сил старалась окрепнуть, чтобы справиться с предстоящим испытанием, но ей это удавалось с огромным трудом. О Сен-Реми больше ничего не было слышно, «брат Жан» не должен был возвращаться. Было условлено, что в день, когда все будет готово, затворники увидят лодку с забытым в ней гарпуном и сетью, привязанную на противоположном берегу канала. Это будет означать, что к одиннадцати часам эта лодка причалит к соседнему дому, куда заложники должны будут добраться по крыше.
Беглецам придется пробираться по стоку, к счастью, достаточно широкому, переходящему на соседнем доме в карниз. Угол крыши представлял собой самый сложный участок пути. Скрывшись из виду, беглецы собирались спустить в лодку веревку с завязанным на конце белым платком. Сен-Реми привяжет к этой веревке веревочную лестницу, которую надо будет прикрепить к слуховому узкому окну под крышей. Катрин с помощью своих спутников останется лишь спуститься в лодку и скрыться в монастыре августинцев.
Крайним числом побега было названо восемнадцатое апреля. Три дня прошло без каких-либо изменений. Среди трех узников, отрезанных от остального мира, постепенно росло беспокойство. К ним больше никто не приходил, если не считать предводителей цехов, регулярно навещавших Катрин, чтобы удостовериться в ее присутствии во дворце. Иногда снаружи до затворников доносились шум и крики разгневанной толпы. Случалось, что на соседнем мосту они замечали ревущих людей, размахивающих оружием и знаменами, наспех сделанными из бумаги, с надписями, которые невозможно было разобрать.
Обстановка в Брюгге накалялась. Как бы в подтверждение этого вечером пятнадцатого апреля прибежала красная, запыхавшаяся, растрепанная Гертруда ван де Валь.
– Я пришла к вам, – сказала она Готье. – К нам из Гента поступили ужасные известия. Народ поднял бунт. Бьюсь об заклад, что завтра или послезавтра бунт вспыхнет и в Брюгге, а если это случится, то ваша госпожа подвергнется серьезной опасности. Ее надо будет защищать. У вас есть оружие?
Готье развел руками:
– У меня лишь сила рук и жар сердца, дорогая дама. Когда ваш супруг препроводил нас сюда, он позаботился о том, чтобы лишить нас шпаг и кинжалов.
– Вот они.
Без стеснения Гертруда подняла свое широкое просторное платье, обнажив полные ноги, и вытащила шпагу Готье, которая была привязана прямо к рубашке, затем, порывшись в большом холщовом кармане этой рубашки, извлекла три кинжала.
– Держите. Спрячьте их и в трудную минуту воспользуйтесь ими. Это все, что я могу для вас сделать.
– Это не так мало! – сказала Катрин, сжав руки храброй женщины. – Как вам удалось их достать?
– Это было несложно. Мой супруг мне сам их отдал, а я лишь принесла вам. Поверьте, этот человек не так уж плох. А теперь я должна попрощаться с вами. Он хочет, чтобы я с детьми завтра покинула город сразу после открытия ворот. Только мой старший сын Жосс останется здесь с отцом.
– Куда же вы поедете?
– У моего брата есть владения недалеко от Ньюпорта. Они сильно пострадали от нашествия англичан, но там мы будем в безопасности. Вы представить себе не можете, как горько покидать вас в минуту опасности.
Горечь Гертруды была искренней, на глазах у нее выступили слезы, и Катрин обняла ее.
– Поезжайте с миром и больше не беспокойтесь обо мне, – сказала она.
Когда Гертруда ушла, Катрин почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Тишина, установившаяся в доме, показалась ей угрожающей. Она протянула руки к очагу, и Готье заметил, что они дрожат. Катрин заставила себя улыбнуться:
– Сегодня довольно холодный вечер, не правда ли?
– Да. Я тоже замерз. Госпожа Катрин, не беспокойтесь, мы сумеем вас защитить. Теперь до нашего отъезда мы с Беранже будем спать здесь и по очереди охранять вас. Нам не следует расставаться с оружием.
Ночь прошла без происшествий, если не считать пожара недалеко от церкви Нотр-Дам. Днем все было спокойно. Городскую тишину нарушали лишь бой часов на дозорной башне да перезвон церковных колоколов. Беранже напрасно ожидал появления лодки.
– Наверное, завтра, – вздохнул он, – необходимо, чтобы это случилось завтра. – Он не знал, почему эта мысль пришла ему в голову. Скорее всего его тревожила эта зловещая тишина, установившаяся в городе. Это было затишье перед бурей.
– Можно подумать, что город затаил дыхание, – угадал его мысли Готье.
Город сдерживал его еще всю ночь, которая оказалась самой спокойной за последнее время, но утром 18-го, как юноши и предвидели, произошел взрыв. Едва рассвело, как на дозорной башне ударили в набат. Узники стояли возле окна, наблюдая, как разъяренные толпы мастеровых, неизвестно откуда появившиеся, заполнили улицы.
Горожане размахивали оружием, выкрикивали давний девиз мятежей: «Вставайте, вставайте, нас предали!»
– Посмотрите! Лодка! Она приближается! – радостно прошептал Беранже.
Действительно, к противоположному берегу причалил рыбак. В плоском суденышке без труда можно было рассмотреть на дне гарпун и большую сеть. Рыбак был одет в холщовую рубашку, голубой льняной берет, натянутый до бровей. Высокий худой мужчина с бородкой и большими светлыми усами был Сен-Реми. С ловкостью, которую Катрин не ожидала от элегантного кавалера, он поставил лодку между двумя другими, надежно привязал ее и уселся, словно раздумывая над чем-то или ожидая кого-то. Через некоторое время, делая вид, что задумался, он покинул лодку, взобрался на причал и слился с орущей толпой, как раз проходящей мимо.
– Он сошел с ума! – вздохнула Катрин. – Если кто-нибудь узнает его сегодня, ему не спастись.
– Скорее он смельчак, – поправил ее Готье. – К тому же вы сами, госпожа Катрин, в тот раз его не узнали.
– В любом случае, – со светящимися от радости глазами заключил Беранже, – этой ночью мы вырвемся из нашей тюрьмы.
– Возможно, чтобы оказаться в другой, – вздохнула Катрин. – Нам придется, разумеется, некоторое время оставаться в монастыре, прежде чем мы сможем выехать из города.
Никогда еще день не казался таким длинным. Бесконечно тянулось время, а обстановка в городе все больше накалялась. К вечеру шум в городе не утих, и, когда Катрин задала вопрос о происходящем в городе начальнику караула, кожевенных дел мастеру, тот ответил:
– Сегодня народ вершит правосудие! Над ним достаточно поиздевались. Пришло время заставить Филиппа бояться! – с победным блеском в глазах воскликнул он.
– Правосудие – над кем?
– Над теми, кто нами управляет и нас предает! Можете больше не ждать визитов бургомистра Варсенара, его и его брата сегодня казнили. Негодяй! Он прекрасно знал, что этим кончится: его нашли в гронвурде, притащили на Рыночную площадь и удавили.
– Но что он вам сделал? – в ужасе воскликнула молодая женщина, не в силах сдержаться. – До сих пор он, как мне кажется, защищал ваши интересы?
– Как бы не так! Он вступил в сделку с этим проклятым герцогом Бургундским, стремящимся уморить нас голодом. Мы узнали, что Филипп разрешил жителям Леклюза разгружать шотландский уголь, шведский и датский лес. Раньше мы одни занимались этой разгрузкой. Варсенар находился у герцога, когда тот принял это милое решение. Нам надоели эти люди, которые улыбаются в лицо и предают за спиной.
– А Луи ван де Валя вы тоже удавили?
– Не бойтесь, он еще жив. Вы сами в этом убедитесь, когда он придет за вами с палачом, чтобы отвести на Рыночную площадь. Это случится довольно скоро, если ваш дружок Филипп будет и дальше дурачить жителей Брюгге. На вашем месте этой ночью я бы молился дольше обычного.
Он сплюнул чуть ли не на ноги Катрин, развернулся и вышел, напевая застольную песенку.
Трое узников с тревогой переглянулись.
– В любом случае, – сказал Беранже, – нас это больше не касается. Этой ночью мы убежим. Лишь бы нам это удалось. Вместо спокойной темной ночи нас ожидает пьяная гульба вооруженных факелами разбойников. Кто знает, не придет ли им в голову мысль расправиться с нами до назначенного часа.
– Тогда мы погибнем все вместе, – спокойно заключил Готье.
И действительно, кровавое дневное празднество постепенно превращалось в вакханалию. Когда наступила ночь, скорее красная, чем черная из-за скопления факелов на Гранд-Пляс, все громче раздавались пение, смех, призывы к казни.