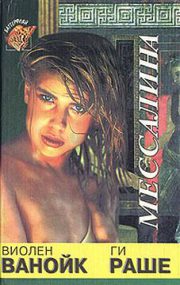— Такой слух ходит по городу, — согласился Клавдий, — но известно, что его пустил Мнестер, чтобы отомстить императрице за какую-то пустячную обиду. Я презираю такую месть, но хочу быть к Мнестеру снисходительным и простить его, он большой талант.
— Клавдий, поверь мне, это не просто сплетни…
— Послушай, Агриппина, — прервал он ее тоном любезным, однако не допускающим возражений, — невозможно осудить императрицу на основании слухов. Я признателен тебе за то, что из любви ко мне ты захотела меня предупредить, но тебя ввели в заблуждение. Может, ты имеешь другие доказательства ее вины?
— Мне казалось, что я представила тебе достаточное доказательство. Но поскольку ты не хочешь этому верить…
— Разумеется, нет, — твердо сказал он, вставая.
Клавдий поцеловал Агриппину в лоб и, пожелав ей спокойно провести остаток ночи, удалился. Агриппина склонилась над постелью сына, удостоверилась, что он заснул, и пошла к себе. Она утешалась тем, что было бы глупо надеяться убедить Клавдия, прибегнув к простому оговору. И все же ее радовала мысль о зерне сомнения, которое она заронила в его голову и которое обязательно прорастет, если она будет медленно и терпеливо действовать.
Клавдий, подойдя к порогу своей комнаты, в последний момент передумал и направился к Мессалине. Он нашел ее спящей на ложе; рядом спала Октавия. Это зрелище умилило его. Клавдию отрадно было думать, что к нему благоволит Венера, давшая в жены такую красивую и благоразумную женщину. Когда он шел по комнате, залитой тусклым светом ночного светильника, Мессалина открыла глаза. Она знала, что Клавдий придет к ней, и напустила на себя умиротворенный вид, стремясь скрыть свою тревогу.
— Клавдий, возлюбленный мой повелитель, — прошептала она. — Я счастлива, что ты пришел поцеловать меня перед сном.
— Мне доставляет удовольствие видеть тебя спящей рядом с нашим милым дитя.
— Кажется, большая тайна, которую хотела доверить тебе наша племянница, не слишком тебя взволновала?
— Она хотела сообщить мне некоторые подробности заговора Галла и Корвина, не зная, что я их уже допросил.
Клавдий посчитал, что лучше уж обмануть Мессалину и не восстанавливать ее и далее против Агриппины, что непременно произойдет, если передать ей суть их разговора. Он сел на край ложа, и Мессалина удивленно спросила:
— А как ей удалось прознать о заговоре?
— Я об этом не спрашивал.
— Спросить, пожалуй, стоило. Клавдий, остерегайся этой женщины, она такая интриганка!
— Это моя племянница, дочь Германика, — просто ответил он.
Мессалина сочла разумным не настаивать.
— И как предполагаешь наказать заговорщиков?
— Галла сошлю в его имение на Сицилии. Что касается Корвина, то я еще не решил. Не могу не учитывать того, что он принадлежит к прославленной фамилии и в особенности того, что он твой двоюродный брат. — От этого, по-моему, его вина еще более тяжела. Перед правосудием все должны быть равны. Но, быть может, твой поступок оценил бы народ, если бы ты, по примеру Августа, проявил великодушие и простил бы его. У него тоже есть имение, куда ты мог бы выслать его на несколько месяцев.
— Ты дала мне хороший совет. Именно так я и сделаю. Поистине, моя Месса, я не представляю, как бы жил без тебя! Чем больше я тебя знаю, тем чаще славлю богов за то, что они дали мне такую супругу.
Глава XIX
МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Мессалина порой спрашивала себя, подозревала ли ее мать, что это она, Мессалина, погубила Аппия Силана. Лепида никогда не заговаривала об этом и продолжала вести себя с дочерью так, будто ничего не произошло. Она так мало горевала и так недолго носила траур, что у Мессалины даже закралась мысль, уж не рада ли она исчезновению излишне добродетельного супруга, который мог только мешать ее любовным увлечениям и прочим выходкам. Когда Лепида находилась в Риме и не была целиком поглощена своими новыми связями, она регулярно наведывалась к дочери, чтобы, как она уверяла, поцеловать внуков, но главным образом для того, чтобы обсудить с ней всевозможные городские слухи и в особенности те, что касались императорской семьи. Мессалине иногда даже казалось, что ее мать испытывает злорадство, передавая все те сплетни, которые ходили о ней.
— Я только что от Симона, — объявила Лепида, застав как-то дочь за туалетом, когда рабы подготавливали ее к вечернему пиру, который она собиралась дать в своем доме на Квиринале.
— От Симона? — удивилась Мессалина и нахмурила брови, пытаясь понять, о ком идет речь.
— Да, Симон-маг, ты его знаешь.
— А, так он по-прежнему в Риме? — поинтересовалась Мессалина, не видевшая его со дня своей свадьбы.
— Зачем же ему уезжать, если он здесь бессовестно разбогател? И знаешь, кого я там встретила?
Мессалина состроила удивленное выражение лица, не переставая глядеться в круглое зеркало, которое держала перед ней служанка.
Лепида поспешила объявить торжествующим голосом:
— Валерия Азиатика.
— А! — только и сказала Мессалина, ощутив, однако, легкий толчок в груди.
— Он перестал бывать у Симона несколько месяцев назад, когда расстался с Поппеей. Более того, я узнала, что она сделалась любовницей Мнестера… Это мне кажется невероятным, поскольку, как говорят, этот актер любит только юношей.
— Иногда и женщин, когда находит в них какой-то для себя интерес, — заметила Мессалина, внезапно заинтересовавшаяся тем, что говорила мать.
— Вполне возможно. Я думаю, что ты проявила по отношению к Симону забывчивость. Ведь именно благодаря ему ты стала первой женщиной в империи, и однако ты ни разу не выразила ему признательности. А ведь я уже просила тебя об этом.
— Я и вправду забыла о нем, но не потому, что неблагодарна. Так уж в жизни выходит, и трудно сказать, почему в какое-то время хочется видеть тех или иных людей, а потом от них отдаляешься. Но расскажи мне об Азиатике. Он расстался с Поппеей?
— Некоторое время он с ней не виделся. Правда, он долго был на родине, в Галлии, и еще в Германии. Говорят, раздал немалые суммы легионам, которые там размещены.
— Вот как! И для чего же?
— Не имею ни малейшего представления. Как бы то ни было, а с Поппеей он помирился. Похоже, он даже больше влюблен, чем прежде. Любопытно, что, судя по его разговорам с Симоном, он все более обращается к делам духовным и все дальше отходит от удовольствий плотских.
— Тогда возникает вопрос, что влечет его в компанию Симона, который торгует своей женой и погряз в разврате, — заметила Мессалина.
— А то, что Симон — платоник. Через обладание Венерой общедоступной он возвышается до Венеры небесной, любовь плотская ведет его к любви божественной. Так он утверждает, по крайней мере.
— А ты, мамочка, достигла божественной любви?
— Пока нет, мудрость приходит с годами.
— Мне думается, что мудрость, о которой ты говоришь, не что иное, как усталость от жизни, которая наступает после истощения чувств.
— Очень может быть. Во всяком случае, мои чувства еще никоим образом не истощились, и меня радует мысль, что я еще долго буду получать от жизни удовольствие. Полагаю, то же можно сказать и о тебе, мое дорогое дитя.
— Не знаю. Внутри меня горит сильный огонь, он меня пожирает. Я так жажду наслаждений, что иногда боюсь превратиться в пепел.
— Правда? Прямо-таки в пепел?
— Должно быть, как та птица, которую греки зовут Феникс.
— Но эта птица возрождается из пепла… Я думаю, что Азиатик вновь сошелся с Поппеей благодаря Симону. Они встречаются в доме у него и еще у двух римских всадников… Мне известно только их прозвище.
— Ты их видела?
— Нет, слышала о них краем уха. Однако бедняге Симону страшно не везет. Между ним и Азиатиком вспыхнула крупная ссора, уж не знаю, из-за чего, но только они удалились в отдельную комнату и оттуда слышались их громкие голоса. Потом Симон вернулся один, красный от злости.
— Он ничего не сказал о причине ссоры?
— Ничего, сказал только, что отныне не сможет числить Азиатика среди своих друзей. Еще он добавил, что эти богатые римляне все одинаково неблагодарны и платят злом за добро.
Когда мать ушла, Мессалина с удивлением обнаружила, что вновь думает об Азиатике, о котором уже некоторое время не вспоминала. Она думала о том, что он ее всегда отталкивал, о его презрении к ней, об обиде, которую он ей причинил, велев сказать, что он в Байях, она поверила и помчалась туда, как безумная. Ей вдруг захотелось его увидеть. Мысль о том, что человек, посмевший так ее унизить, продолжает спокойно жить, тогда как за несравнимо меньшую обиду она погубила своего отчима, — эта мысль причинила ей настоящую боль. Надо, чтобы он сдался и сам пришел просить прощения, умоляя принять его, — иначе ему придется умереть.