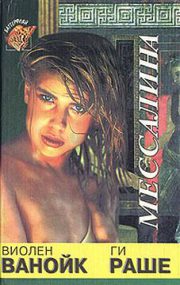Уже наступал вечер, когда привратник сообщил Мессалине, что Гай Силий явился в сопровождении раба, с дарами, предназначенными для поминания Азиатика. Сдерживая нетерпение, Мессалина выждала некоторое время, пока гость совершит жертвоприношение и возлияния, и отпустила мажордома. Едва он ушел, как она устремилась в аллеи сада, где все так же благоухали ночные цветы. На ней была скромная белая туника, спадающая мягкими складками до самых ног, на голову было наброшено легкое покрывало. Приближаясь к тому месту, где покоилась урна с прахом Азиатика, Мессалина различила в закатном полумраке фигуру Гая, стоящего перед мемориальной стелой. Его слуга держался поодаль.
Услыхав шорох шагов по гравию, Гай обернулся. Мессалина почувствовала стеснение в груди — такого с ней еще никогда не было в присутствии мужчины. Его тоже, как ей показалось, охватило волнение, но он быстро справился с ним. Сделав несколько шагов вперед, он приветствовал ее.
— Мессалина, — сказал он затем, — я счастлив встретить тебя в этом саду, поскольку хотел поблагодарить за письмо, которое мне вручила твоя служанка. Я так спешил почтить память друга, что тотчас воспользовался данной мне возможностью. Прости, если я побеспокоил тебя, но я здесь долго не пробуду.
— Гай, ты здесь желанный гость. Меня ты ничуть не побеспокоил, я надеялась тебя увидеть, поскольку хотела бы поговорить с тобой.
— Ты оказываешь мне большую честь.
Она села на мраморную скамейку и пригласила молодого человека сесть рядом.
— Гай, — вновь заговорила она, — я боюсь, как бы какое-нибудь недоразумение не отдалило нас друг от друга, и я еще больше опасаюсь, что ты станешь дурно судить обо мне из-за той клеветы, которую многие римляне и сенаторы распространяют обо мне.
— Поверь, Мессалина, я никого не осуждаю на основании одних лишь слухов, я пропускаю их мимо ушей. Но я признаю, что было время, когда я судил о тебе строго, поддавшись обманчивому внешнему впечатлению. Я знаю, что ошибался, ведь я претендовал тогда на роль блюстителя нравов. Я обязан своему другу Валерию тем, что понял тщету всей той философии, которую проповедуют стоики. В сущности, они разумны и скромны поневоле, оттого, что никто не покушается на их целомудрие. И еще я знаю таких, которые проповедуют воздержанность, а сами предаются тому, что я когда-то считал пороками. Вот, кстати, посмотри на эту урну с прахом человека, который хотел жить без сумасбродства: от него не осталось ничего, кроме этого пепла! Я убедился, что гораздо лучше в полной мере наслаждаться жизнью и не пытаться навязывать другим строгую мораль, которая только делает еще менее приятным наше пребывание в этом мире. Прав наш великий Гораций со своим призывом «ловить день», ловить каждое мгновение. Надо радоваться жизни, и пусть нас считают сластолюбцами-эпикурейцами. Если мир платоновских «идей» действительно существует, мы не лишимся его из-за таких безделиц.
— Гай, я в восторге оттого, что ты воспринял эту лучшую из всех моралей. Я тоже из тех, кто считает, что лучше умереть молодым, напившись допьяна из чаши жизни, чем умереть в преклонном возрасте, прожив много лет в скуке и печали. Лучше быть Александром Великим и уйти из жизни в тридцать лет, завоевав мир, чем почить в безвестности столетним стариком, возделав свое поле, как предписывает нам Вергилий.
— Мессалина, твои речи меня пленяют, и я начинаю чувствовать, что мы созданы, чтобы понимать друг друга и даже друг другу нравиться.
— Вот, Гай, трогательные для меня слова. А я боялась, что ты питаешь ко мне ненависть. Но есть ли у тебя ко мне достаточно уважения, чтобы пожелать сделаться моим другом?
— Я должен признаться тебе, Мессалина, что одно время смотрел на тебя глазами, исполненными презрения. Тогда я отказывался видеть действительность такой, какова она есть, потому что она пугала меня. Но сегодня мое сердце обращается к тебе в порыве страсти.
— Что ты говоришь, Гай? Неужели ты испытываешь ко мне хоть немного любви?
— Немного? Это слово здесь не подходит. Да, Мессалина, я люблю тебя, но эта любовь для меня запретная.
— Любовь не знает запретов.
— И все же запрет существует: никто не смеет любить супругу цезаря.
— Если это так, значит, я обречена никогда не изведать любви? Клавдий уже немолод, а мне лишь двадцать четыре года. Он всегда был очень ласков со мной, но благодаря тебе я открыла, что есть другие чувства, которые были мне неведомы.
— Мессалина! Правда ли, что ты тоже могла бы любить меня?
— Что мне сделать, чтобы доказать тебе это? Мне кажется, что я уже давно люблю тебя, но и я прятала свое чувство, не зная, как ты к нему отнесешься. Боги, Гай, это боги открыли нам глаза. Мы живем вдалеке друг от друга, но сердца наши так близки! Благодаря Валерию, которого, как мне казалось, я любила, мы нашли наши души и узнали о той взаимной страсти, которая владеет ими.
— Нет сомнений, Мессалина, что это богам угодно, чтобы все случилось именно так. Не станем противиться их воле, они все равно выйдут победителями из этой неравной борьбы.
Она встала и протянула Гаю руку, он взял ее и тоже поднялся. Уже наступила ночь, и аллеи наполнились пронзительным стрекотом сверчков и голосами множества других ночных насекомых. Мессалина знала, что по ее распоряжению Ливия уже приготовила спальню Валерия. Спальня выходила в портик, пройдя по которому можно было очутиться на террасе, возвышающейся над садами. Там было тихо, городские шумы туда не долетали, и именно туда она увлекла его на тайную свадьбу, но ей бы хотелось устроить такое празднество, слава о котором полетела бы во все концы империи.
После этой, второй, ночи, проведенной в объятиях Гая, Мессалина поняла, что не может больше жить без него. Она думала только о нем и ждала момента, когда она могла бы вновь с ним увидеться. Сам он спешно развелся с женой, Юнией Силаной, сестрой первой жены Калигулы, чтобы ничто не стесняло его свободы. Он тоже чувствовал в себе всепожирающую страсть к той, которую когда-то хотел ненавидеть из страха стать жертвой этого испепеляющего огня. Ее все реже и реже видели во дворце и в доме на Квиринале: почти все время она проводила в Лукулловых садах и в доме Гая. Сильная эта любовь смягчила непреклонную натуру Мессалины: она позабыла свои старые обиды, простила заклятых врагов и, презрев осторожность, расхваливала в их присутствии таланты и красоту своего возлюбленного. Она пригласила Нарцисса на один из пиров, которые почти каждый вечер устраивала в честь Гая; доверившись Вителлию и Мнестеру, она говорила с ними о Силии, чтобы прогнать тоску, которая овладевала ею, как только он оказывался вдали от нее.
Мессалина и Гай безумно любили друг друга; они уже не замечали своих ошибок, однако сознавали, что придут к гибели, если все будет оставаться по-прежнему. Первым об этом заговорил Гай.
— Месса, — сказал он ей как-то утром, после проведенной вместе ночи на вилле в Лукулловых садах, — мы слишком любим друг друга, чтобы продолжать жить той жизнью, которой живем сейчас. Я не могу ждать, когда император состарится и умрет естественной смертью. Невинные планы — невиновным. Для тех же, кто совершает общественное преступление, единственное спасение — в смелости. Если на нас сегодня донесут, нам грозит обвинение в прелюбодеянии. Ты видела, я без колебаний развелся и теперь свободен. Надо, чтобы и ты сделала то же самое, и тогда мы поженимся.
— Гай, как ты это себе представляешь? Как я могу расстаться с Клавдием? Он никогда не согласится на развод, а если узнает, что я поступаю так из любви к тебе, твоя жизнь будет поставлена под угрозу.
— Клавдий ослеплен своей любовью к тебе, и я знаю, что порой он бывает довольно глуп. Воспользуемся этими слабостями, чтобы его погубить.
— Я не вижу, как нам за это взяться.
— Что касается нашего брака, то я сейчас объясню тебе, как ты должна хитро поступить, чтобы добиться от Клавдия письма о разводе и выйти за меня замуж при полном его согласии.
Когда он рассказал ей свой план, она восхитилась находчивостью своего возлюбленного и спросила:
— Но потом что мы станем делать?
— Ты знаешь, что Август щедро одарил имуществом моего отца, что отец воевал вместе с Германиком, одержал много побед над германцами и над восставшими галлами и получил триумфальные украшения. Германские легионы не забыли его, и много есть ветеранов, которые не смогли простить Тиберию, что он приговорил его к смерти из злобы и страха перед его силой и влиянием. Так, впрочем, Тиберий поступил и с Германиком. Я думаю, меня любит народ и в легионах не забыли имени моего отца. Нам остается лишь попытать счастье. Ты знаешь, как Клавдий боязлив, он скорее отречется от власти, чем станет подвергать себя риску насильственной смерти. У тебя — высокий престиж императрицы, потомка Октавии и Антония, внучатой племянницы Августа. У нас достаточно силы и славы, чтобы поднять легионы и сенат против Клавдия и вынудить его отречься от власти в пользу своего сына Британика. Ты, таким образом, останешься императрицей, а я стану править, усыновив Британика, который будет моим наследником.