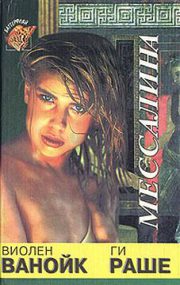— Как ты можешь утверждать, что ты — воплощение бога? И почему я должна тебе верить? Ничто не позволяет мне думать, что ты можешь быть самим Приапом, хотя у тебя тот же рост и та же щуплая внешность, — посмела возразить Мессалина.
Она не могла сдержать горькой ухмылки при мысли о том, что потратила не один час на уход за своим телом — и все для того, чтобы теперь отдать его существу столь неказистому. Она даже тщательно удалила волосы с небольшого родимого пятнышка на внутренней стороне правого бедра, готовясь соблазнить жреца, представлявшегося ей дородным и красивым.
Губы Хилона растянулись в ироничной улыбке. Он снял с головы тиару, обнаружив плешивую макушку, и скинул тяжелый плащ. Мессалина увидела, что не ошиблась, сочтя его тощим, но в отношении всего остального — она вынуждена была признать — он вполне мог соперничать с богом Приапом. Хотя она была еще девственницей, с тех пор как Фабий увлек ее в тень аркады на ипподроме и показал ей, чем его одарила природа, она много раз имела случай полюбоваться восставшим мужским членом: либо когда ее мать, не желавшая, чтобы дочь пребывала по поводу этих вопросов в неведении, показывала ей обнаженным кого-нибудь из своих рабов, либо когда она сама видела возбужденного мужчину в общественных банях, куда мать водила ее; а посему она могла со знанием дела судить о достоинствах Хилонова пениса, являющегося важным атрибутом в его столь удачной карьере жреца-шарлатана. Мессалина разрывалась между чувством отвращения к жрецу и желанием впустить в себя это жало, так стремящееся вонзиться в нее.
Словно застывшая вдруг от цепенящего взгляда новой Медузы Горгоны, она не сводила глаз с представшего перед ней чуда и не сделала ни малейшего движения, когда жрец Приапа, опустившись перед ней на колени, развязал тесемки ее туники и, отбросив в стороны полы одежды, раскрыл ее сияющую наготу.
Он проник между слегка раздвинутых бедер Мессалины и принялся умело ласкать ее. Очень быстро живот ее начал пылать, бедра двигались под руками жреца. Она видела лишь неясные тени, которые светильник вырисовывал на потолке. Мессалина закрыла глаза. Теперь говорило одно ее лоно, и вскоре она ощутила в себе что-то вроде глубокой раны.
Глава IV
В ТЕРМАХ АГРИППЫ
Рим окончательно утратил свое былое очарование. День ото дня он казался все грязнее и зловоннее. Мрамор и золото храмов и дворцов, великолепие галерей — ничто не могло скрыть убожества бедных кварталов, где вместе с римлянами ютились италийцы, прельстившиеся выгодами, которые давал Город своим гражданам, а еще галлы и испанцы, греки и сирийцы, египтяне и евреи, нумидийцы, эфиопы и выходцы из глубинной Африки. Будто один из районов Рима, Субура, кишащий беглыми рабами, проститутками, своднями, содержателями кабаков и притонов, раздвинул свои границы и распространился на все другие кварталы города.
Калигулу горячо любил народ, и оттого радость на время сменила страх, посеянный среди римлян Тиберием. Однако в течение полутора лет с момента прихода к власти поведение молодого императора постепенно менялось. То безрассудство, которое с удивлением стали отмечать в нем после его болезни и которое полагали явлением преходящим, в действительности лишь усугубилось, и чувство беспокойства вслед за сенаторами охватило и народ. А затем смерть отняла у императора самое дорогое: 10 июня, на второй год его правления, загадочный недуг, столь же внезапный, сколь и быстротечный, свел в могилу Друзиллу. Калигула любил ее, обожал, боготворил, и некрепкий его рассудок не устоял перед горем. Калигула укрылся от глаз всех, запретил какие бы то ни было праздники, объявил всенародный траур, который длился полгода.
Риму надлежало оплакивать его наследницу, как оплакивал ее сам император. Для Города это было обязанностью. Запрещалось смеяться, посещать бани, устраивать пиры. Рим должен был походить на своего заросшего бородой, лохматого, потрясенного правителя, не выносившего более свой город. Он надолго исчез из Рима; говорили, что он в Азии, в Греции, на Сицилии. Потом он неожиданно вернулся, чтобы обожествить Друзиллу.
Изумленные и встревоженные римляне видели Калигулу, страстного любителя танцев, плящущим, слышали, как их Гай, друг греков, говорит о восстановлении храма Аполлона в Дидимах, памятников Поликрату на Самосе, о готовности прорыть канал в Коринфском перешейке; но еще они видели своего цезаря безжалостным и кровавым, предавшим смерти Макрона, префекта претория, и его жену Эннию, при том что одному он был обязан троном и, быть может, жизнью, а другая была его любовницей. Это первое преступление лишь начинало собой целую вереницу злодеяний, призванных поставить императора вровень со своим предшественником. Тот ли это был Гай, некогда столь ловко управлявший событиями, в течение лета так справедливо перераспределивший владения среди правителей, коим он покровительствовал, и под властью которого защита границ и управление провинциями были столь надежно обеспечены?
После того как сенатор Ливий Гемин, поклявшись в том, что видел, как Друзилла воспарила к небу, получил за это миллион сестерциев, многие римляне падали ниц перед воздвигнутой на форуме статуей Венеры с чертами Друзиллы в надежде обрести богатство. Именем Друзиллы клялись, ее душою присягали, в ее честь сооружали храм. Все подчинялось воле Калигулы. Однако народ начинал роптать по поводу этих злоупотреблений властью. С какой стати он вот уже несколько месяцев оплакивает двадцатидвухлетнюю женщину, единственная заслуга которой состояла в том, что она родилась сестрой императора? Один только Мнестер, страсти к которому Калигула не скрывал, имел право появляться перед публикой, грубо имитируя Одиссея, Ахилла, Менелая и Елену. Этот уроженец Финикии, бывший мимом и комедиантом в Тире и Антиохии, плясал на канате и делал сальто-мортале. Многие римляне разорились на нем, несмотря на его некрасивую внешность и начинающуюся полноту. Толпа обожала его и таким образом скрашивала себе томительные, исполненные скуки месяцы, возлагая надежды на новую супругу Калигулы Лоллию Павлину, которую ему уступил ее собственный муж, императорский наместник в Ахее.
Мессалина протяжно, с тоской, вздохнула. До чего же длинными казались ей дни — и это когда близилось зимнее солнцестояние! Она проводила взглядом Мнестера, только что выступившего и удалявшегося со свитой поклонников, любовников и просто прихлебателей. Мим каждое утро выступал на площади, позади дома Мессалы Барбата. Солнце, уже высоко поднявшееся в тусклом, но безоблачном небе и освещающее колонны перистиля, слишком медленно изгоняло ночную стужу. В отсутствие матери Мессалина сама велела раздуть огонь, который днем и ночью поддерживался в большой печи, обогревающей воздух под жилыми комнатами. Роскошь эта была еще редкостью у римлян, но Лепида вытребовала ее у мужа.
В этом году в декабре стояли холода, и настроение у римлян было угрюмое. Они меньше гуляли по утрам на форуме, не проводили народных собраний на Марсовом поле, а старики не засиживались на скамейках перед храмом Кастора и Полукса, как бывало в теплые весенние дни. Одна только базилика Эмилия, защищенная от холода, еще принимала постоянных покупателей, приходивших за украшениями, духами, дорогими вещицами, сделанными из мрамора и драгоценных камней. Даже ребятишки покинули ступени, ведущие к ростральной трибуне, куда весной слетались птицы с Велабра и Яникула клевать хлебные крошки и зерна, которые им бросали.
Мессалина приказала проветрить комнаты и опять затворить ставни, чтобы сохранялось то немногое тепло, которое шло от кирпичного пола. Затем она послала двух рабов к источнику — запасти в амфоры воды на целый день. Теперь в отсутствие матери она брала в свои руки управление домом, тогда как Лепида бегала по сосновой роще на Яникуле в надежде отыскать для покупки более просторное и удобное жилище вдали от слишком шумного, по ее мнению, центра Города.
Мессалина села на край узкой постели и снова вздохнула. Как с ней часто случалось, она принялась думать о Валерии Азиатике, которого не видела уже больше года. Она еще много раз ходила в храм Мифилесета, но, несмотря на свои молитвы и закопанную на кладбище мандрагору, до сих пор не нашла себе подходящего супруга. Правда, праздники были запрещены императором уже более полугода, а без них трудно было рассчитывать на полезные встречи. Что до отца, который мог бы подыскать ей мужа среди своих знакомых, то он, похоже, почти не прилагал к этому усилий. Мессалина подозревала даже, что он избегает говорить с кем бы то ни было о замужестве дочери, в результате которого в его доме не станет единственного человека, к коему он был по-настоящему привязан. А мать гораздо больше думала о своих собственных развлечениях, нежели о том, чтобы выдать дочь замуж. Не приходилось надеяться и на ночные сборища у Хилона: это общество составляли явно люди развратные, ищущие себе отнюдь не супругу, да к тому же все женатые.