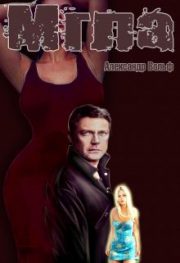— У вас необычно.
Она показала на фотографию на стене.
— Муж был архитектор, предпочитал все оригинальное.
На цветном фото высокий седой мужчина обнимал ее сзади за плечи. Они смотрели в камеру и улыбались. Она отвернулась от фотографии и сложила руки, как будто растирала что-то в ладонях.
— Садитесь, что же вы?
И снова ушла. Он понял, что шуршит не платье, а колготки. Он проводил взглядом ее уютное, как будто переливающееся из емкости в емкость, тело. Ему показалось, что он видит сквозь платье, как трутся ее окорока, обтянутые колготками, сжимаются все сильней. Она вернулась с чайником и блюдом с конфетами и печеньем.
— Наливайте.
И села в кресло напротив него. Села неглубоко, как бы подвинувшись к нему. Ее полные руки порхали над столом.
— Может, вы хотите есть?
— Нет, нет, я сыт. А вот чай выпью с удовольствием. Можно, я сниму пиджак?
Она кивнула, взяла у него пиджак и повесила на вешалку. Он еще больше ослабил галстук и расстегнул рукава рубашки. Подняв глаза, он встретил ее взгляд и вопросительно двинул бровями.
— Нет, ничего, — она смущенно улыбнулась. — Вы такой большой здоровый… парень. У меня сын такой. Наверное, немного моложе вас. — Она засмеялась, закрыв глаза рукой.
— Что такое?
— Сравнивать вас с сыном как-то неправильно…
Она смутилась, опустила лицо, словно что-то вспомнив, потом поднялась, подошла к музыкальному центру и включила музыку. Она взяла пульт и долго переключала, пока нашла то, что хотела. После этого она вернулась к столу и опустилась в кресло, набухшая от волнения.
— Мне нравится это композиция Ярдбердз — Glimpses. Она чем-то напоминает ту, что играла в машине, — сказала она.
— И подходит этому моменту, — сказал Зудин.
— Чем же?
— Как вы тогда сказали? Она тревожная и завораживающая.
Их глаза встретились. Казалось, эта напряженная мелодия говорит за них. Она не выдержала и отвернулась. Он брал печенье и запивал чаем, а она сидела, обхватив себя за локти и спрятав ноги под кресло, как будто в гостях. Ее лицо было повернуто в сторону, словно стыдилось вывалившейся на локти груди.
— Почему вы не пьете чай? — спросил он.
Она взяла чашку, поднесла к губам и обожглась, поставила на блюдечко, расплескав золотистую жидкость, прижала ладонь к губам и зажмурилась.
— Что с вами?
Она покрутила головой, чтобы он подождал. Он дожевывал печенье и смотрел на нее.
— Простите меня, Роман, — пробормотала она. — Я думаю, вам лучше уйти.
Он поставил чашку.
— Что случилось?
Она отняла ладонь от губ и положила руки на подлокотники.
— Все это так неожиданно. Мы знакомы всего два часа, а мне кажется, что я знаю вас уже давно. И как будто мужа нет целую вечность.
— Так бывает.
— Я не хочу, чтобы так было, — она вцепилась в подлокотники как в единственную опору. — Вы приятный молодой человек… хороший. Вы наговорили мне массу приятных вещей… Но зачем?
— Вы мне нравитесь.
— Вы сейчас уйдете.
— Как хотите, но того, что я сказал, это не меняет.
— Что значит: как хотите? Что между нами может быть?
Он сделал вид, что не понимает.
— Что может быть между мужчиной и женщиной? Отношения.
Она вздрогнула.
— Это невозможно!
— Почему?
— Я все еще люблю…
— Понимаю. Это часть вашей жизни и, судя по тому, с какой искренностью вы говорите, лучшая часть. И это останется с вами навсегда.
Ей понравились его слова.
— Но так сложилось, что теперь его нет, а вы есть, и вы в этом не виноваты.
— Меня бы не простили дети, — она опустила лицо.
— Не простили бы, если б хотели, чтобы вы страдали. А если они любят свою мать, они будут рады, когда увидят ее счастливой.
— Такого счастья я не хочу.
— Кого вы обманываете, меня или себя?
— Я не хочу быть счастлива таким счастьем.
— Подумайте, если он любил вас по-настоящему, бескорыстно, разве теперь там, где нет пут, отягощающих нас в этой жизни, где нет эгоизма, ревности, зависти, всего, что не дает нам здесь быть свободными и счастливыми, разве может он там хотеть, чтобы вы страдали? Он лишь может хотеть, чтобы вы были счастливы…
— Уходите, — она двинулась вперед, словно вложила в это слово остаток воли.
— Я вижу, что вам больно, и вижу, что где-то глубоко в вас живет стремление к счастью, к простому человеческому счастью, но вы изо всех сил подавляете его. От этого все эти ваши длинные платья и застегнутые до горла пуговицы. Вы боретесь с собой. Но не хотите признать, что вы не виноваты. Вы не виноваты ни перед ним, ни перед детьми, ни перед собой. Дайте себе свободу и разрешите себе быть счастливой. Вы этого заслуживаете.
— Я вам в матери гожусь!
— Опять двадцать пять! При чем тут возраст? Я нравлюсь вам? — он напряженно следил за ней. — Хотя бы немного?
Она сдалась на одну секунду, чтобы снова взять себя в руки.
— Да.
— И вы мне нравитесь.
— Я старуха.
— Нет!
— Вам молодая нужна.
— Вы лучше молодых.
— Бросьте.
— Вы просто вдолбили это себе в голову.
— Нет, я просто вижу себя в зеркале.
— В зеркале? Пойдемте, я вам тоже кое-что покажу, — он поднялся над столиком, протянул ей руку, — в зеркале.
Она подняла на него глаза.
— Пойдемте, — повторил он. — Дайте руку.
Она знала, что не должна уступать, что должна быть твердой, но ее рука потянулась к нему. Она почувствовала его большую теплую ладонь и поднялась.
— Идемте, идемте, — он тянул ее в коридор.
Он подвел ее к зеркалу и стал за спиной. Она смутилась. Она увидела себя, растерянную, перетянутую складками платья, словно веревками по всему телу, ждущему освобождения, и его красивое, доброе, улыбающееся лицо.
— Что вы видите?
Ее темное платье с вывалившейся в кружево грудью показалось ей вызывающим. Стало стыдно за свое выпирающее во все стороны мясо.
— Я чувствую себя словно голая.
— Вот и хорошо.
Он осторожно, словно она была такой хрупкой, что он боялся ее сломать, взял ее за плечи.
— Если вам стыдно, значит, вы женщина. На самом деле в этом нет ничего постыдного, потому что мы такими созданы.
Он коснулся ее сзади. Она немного склонила голову набок, словно подставляя шею для поцелуя. Он провел по ее кружевам и положил руки на талию. Она повернулась к нему лицом, и он увидел, что она тянется к нему губами. Неожиданно она вздрогнула и отшатнулась.
— Вы должны уйти…
Он замер.
— Сейчас же! — простонала она.
Она задыхалась. Он повернулся к вешалке, чтобы взять куртку.
— Пиджак! — воскликнула она и быстро пошла в комнату.
Она взяла его пиджак дрожащими руками, которые готовы были предать ее в эту минуту, повернулась и столкнулась с ним. Он взял из ее рук пиджак и бросил на пол. Ее глаза молили, только он не стал разбирать, о чем; то ли, чтоб он ушел, то ли чтобы не уходил. Он взял ее за плечи и повалил на кровать.
— Нет! — выдохнула она.
Она пыталась вырваться.
— Не смей, — она высвободила руку и вцепилась ему в щеку.
Он терпел, хотя она сжимала изо всей силы.
— Укушу! — она рванулась, пытаясь дотянуться до него зубами, и раскрыла рот, как от боли.
Он положил руку на обе ее руки, сжал их. Она застонала, замотала головой. Ее большое тело напряглось, он почувствовал, как сжались ее бедра. Он прильнул к ней, распластался по ее телу. Ее волосы растрепались, закрыли лицо. Она попыталась сдуть их.
— Я хочу тебя, — прошептал он.
— Не здесь! — ее глаза наполнились слезами.
— Не здесь, не на этой кровати — плевать на все…
Она еще сопротивлялась, тело ее сжималось, как в судорогах, но лицо уже не дергалось, слезы катились по скулам. Он, ждал, когда желание победит ее. Сомкнул челюсти на горле жертвы и смотрел ей в лицо. Она устала. Он высвободил руку и положил ей на грудь. Она сглотнула, тело ее обмякло, отяжелело, она разомкнула губы и задышала совсем по-другому. Глаза скрылись за поволокой, и ушли под веки.
Глава VI