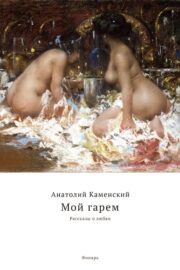— Ну, хорошо, только ты мне на прощанье кое-что порасскажешь. Отвечай, подсылал тебя муж сюда в Благовещенье или и тогда ты, может быть, сам?..
Взволнованным, оправдывающимся шепотом поручик Мерц что-то рассказывал Валентине.
— Дося! — отрывисто сказал Сережа.
— Тише, что вы? — жарко, с испугом шепнула она ему в ухо.
— Дося! — ответил он еще настойчивее.
— Ну, что вам?
— Я вспомнил, на кого ты похожа. Ты и в особенности твои глаза.
— Тише… на кого?
— На саранчу. Я видел у нас в имении на юге. У нее такие же зеленые, широко расставленные глаза. И вся она такая же твердая и сухая. И у нее такой же жадный рот.
— Да, да! — раздумчиво шептала Дося, обжигая его шею губами. — Я жадная, я вас съем, сгрызу.
— О, саранча! О, сумасшедшая саранча! — весело и нежно шептал Сережа, покрывая поцелуями ее лицо.
Разговор Валентины с поручиком Мерцем продолжался. Иссушенный, ошеломленный налетевшим на него вихрем, Сережа Лютиков лежал неподвижно и слышал то виноватый неразборчивый шепот офицера, то беспощадный, хлещущий и отчетливый крик молодой женщины.
— Неправда! Это было не один раз. А в прошлом году, когда я отпросилась у Антона Герасимовича в театр с сестрой? Почему ты прятался за колоннами в фойе и не подошел? И откуда стало известно мужу, что в антракте я пила чай с Горбачевым? Наконец, мне надоело все это, господин Мерц. Прошу вас сейчас же убраться вон. Не смейте трогать меня.
— Тетя, умоляю… Я сойду с ума.
— Не прикасайся ко мне, негодяй. Я ударю тебя.
— Ах, я люблю вас… Один, один поцелуй.
— Негодяй! — еще раз крикнула Валентина, и тут же раздался резкий хлещущий звук пощечины, и зазвенели шпорами поспешные шаги.
— Очень хорошо-с, — сухо говорил офицер, — при случае сосчитаемся, любезная тетушка.
— Дося, — крикнула Валентина, — подай пальто.
Сразу стало холодно, и по тому, как забегали тени, он угадал, что Валентина дала дорогу Досе и сама вступила в кухонную дверь.
— Будьте здоровы! — холодно, сквозь зубы произнес Мерц. — Честь имею кланяться.
— Передайте привет Антону Герасимовичу! — крикнула Валентина с порога кухни уже веселым, подчеркнуто торопливым и радостным голосом. — Доложите ему, что все благополучно, что осажденная крепость блестяще отбила все артиллерийские атаки.
Громко захлопнулась дверь.
— Ура, Досичка, ура! Ну, как наш пленник?.. Ты целовалась, подлая Доська?.. Посмотри мне прямо в глаза. Покажи губы. Как же это ты смела! Ну-ка, выходите, Сергей Иванович! Как-то вы оба оправдаетесь передо мной!
Сережа вышел в измятом костюме, с прищуренными глазами, и снова увидал все ту же необычно красивую Валентину в белом капоте и золотых туфлях, с ленивой, низко падающей прической, и его ум снова подсказал ему, что близость этой женщины может быть похожа на очаровательный, горячечный вымысел или сон. Холодок все же бродил у него в мозгу, соблазнительные мысли о рессорах извозчика, о свежей простыне кровати, о крепком здоровом сне до двенадцати часов.
— Пойдем, пойдем, — тянула его куда-то Валентина. — Доська, теперь можешь ложиться спать. Антон Герасимович вернется не скоро, а если скоро, то он для нас безопасен — будет совсем пьян.
Сережа пересилил себя, пошел, и новый вихрь поглотил его, и в минуту исчез мозговой холодок.
Часа в четыре Сережа очнулся от мертвенно-сладкого забытья. Было светло, розовели на окнах тонкие занавески, и чижик без конца насвистывал заученную фразу: «Чижик, чижик, где ты был?», и было слышно, как по соседству прыгают морские свинки.
То, что произошло за эти 10–12 часов, было уже где-то далеко-далеко. Белое утро отчетливо и трезво ударило Сережу по глазам. Обе женщины спят. С минуты на минуту должен вернуться Антон Герасимович — пьяный, небритый столоначальник в рваном пальто, его, Сережи Лютикова, непосредственное начальство. Сладкий мускат, тяжелые космы волос, черная пустота и зеленая неподвижность глаз, исступленные объятия двух женщин, ежики, свинки, зверинец, красивая находка — саранча, — обо всем этом интересно будет подробно припомнить и порассказать потом. А сейчас — растущий холод, приятная, бодрящая торопливость, трезвая проза. Бежать, бежать! Поправить галстук перед зеркалом. Так и не удалось сегодня купить ни нового галстука, ни духов. Удобно ли закурить тут же в спальне папироску? В сущности говоря, какой-то дикий кошмар. И что бы там ни было, не следовало опускаться до амикошонства со стороны какого-то Антона да еще Герасимовича, спившегося чинуши из мещан. Только бы не столкнуться с ним, а на службе можно будет как-нибудь поправить ошибку, взять какой-нибудь средний, небрежный, расхолаживающий тон.
Он надел пальто, неслышно снял с двери крюк, вышел на площадку и уже спустился на несколько ступенек, как вдруг внизу сильно хлопнула дверь и раздались голоса.
Несомненно, это Антон Герасимович и поручик Мерц. Это их длинная, многословная разноголосица и возня. Идут, как полагается пьяным, останавливаясь и торгуясь на каждой ступеньке, и будут идти еще minimum полчаса. Другого выхода на улицу нет, и на секунду у Сережи захватило дыхание при мысли о неизбежной встрече, пьяном скандале, свалке, обнаженной шашке офицера, но тут же он успокоился, быстро взбежал на самую верхнюю площадку, сел на подоконник и почти весело стал прислушиваться и ждать.
— Не хочу понимать! — кричал каким-то нелепым, звериным голосом Антон Герасимович. — И кто мне может запретить? Вот хочу и буду идиотом. И не обязан ничего понимать.
— Дядя! — мученическим тоном умолял Мерц. — Я вам ничего мудреного не предлагаю. Я говорю: надо идти домой, наверх.
— К-куда наверх?
— В квартиру.
— Какую квартиру? У меня нет квартиры. Я живу в зоологическом саду. И всех ненавижу.
— Голубчик, дядя. Я тоже пьян, но могу вам помочь — обопритесь на меня.
— Н-не хочу. Ты п-подлец. Ты влюблен в мою жену. А я не позволяю. Ухаживай за Доськой, а за ней н-не имеешь права. А он где? Ты помнишь? Он остался с ней?
— Кто?
— Этот ф-фрукт на… на цыпочках… Л-лицеист?
— Да мы же вместе уехали. Вот вспомнили…
— Неужели… Ты видел?.. А он тоже к ней лез. Я ему завтра пропишу. Я ему такой рапорт в сенат заковырну…
Все выше, выше, почти у двери в квартиру. Голоса раздаются гулко, наполняют весь колодезь лестницы до самого верхнего потолка. Сереже становится немного жутко и чуть-чуть брезгливо, несмотря на веселый и безопасный наблюдательный пост. Еще не успели позвонить, как раскрылась дверь. Голос Валентины сказал:
— Ах! Какой мерзкий, отвратительный… Да иди же, иди скорей.
— Ж-жена, — рычал Антон Герасимович, — радуйся. Пришел самый главный зверь. Это я. Его высокородие коллежский советник Чукардин. Удивляюсь.
— Дядюшка! — почти плакал поручик Мерц. — Да обопритесь же на меня. Голубчик, я не могу. Дося, помогите же мне поднять.
— Зач-чем поднимать? А если я не хочу? Вот сяду здесь, и навсегда.
Возились, тащили, поднимали, дверь захлопнулась, все затихло.
Сережа Лютиков неторопливо спустился вниз, тихонько, крадучись по стенке, прошел до угла, облегченно вздохнув, вскочил на извозчика и велел погонять.
Почтенный дом
Если кто-нибудь позволял себе в общем зале возвысить голос, произнести непристойное или угрожающее слово, из соседней комнаты, как по мановению ока, появлялась ключница Елизавета Робертовна и, подойдя к не умеющему себя держать гостю, говорила:
— Покорнейше прошу не нарушать приличий. Здесь бывают уважаемые семейные люди. Вы, очевидно, ошиблись: у нас не заведение, а почтенный дом.
Строгий тон голоса, гладкое темно-коричневое платье, золотое пенсне на умном и совершенно интеллигентном лице, все это, делавшее Елизавету Робертовну похожей на классную даму фешенебельного института, оказывало магическое действие. Гость тотчас же сокращался, переставал шуметь и потом, со второго или третьего визита, незаметно для себя, становился постоянным, то есть «уважаемым», посетителем. А сделавшись уважаемым, всячески старался поддержать ту почтенную атмосферу, которая была разлита во всей обширной квартире, начиная с передней и кончая коридором с уходящею в сумрак линией белых дверей.