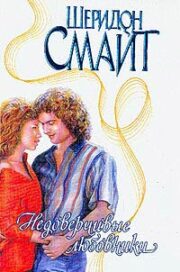И женщина его хотела.
И он хотел ее.
Остин махнул рукой и опустился на колени.
Кэндис потянулась к нему.
Остин потянулся к ней.
Они сбросили с себя одежду. Кэндис ухватила Остина за тугие ягодицы и притянула к себе с силой, которая поразила его. После этого он мог думать лишь о том, чтобы удовлетворить эту женщину и утолить свою пламенную жажду, свою боль по ней.
Склонившись над Кэндис, он посмотрел прямо в ее прекрасные, с поволокой, глаза и прошептал:
— Ты хочешь меня?
— Хочу.
— Сильно?
Охрипшим от страсти голосом выговаривая эти слова, он уже был в ней, в ее влажном, напряженном лоне и скрипнул зубами — не от боли, но от наслаждения.
Кэндис вобрала в рот его нижнюю губу и нежно куснула. Выдохнула:
— Я хочу всего тебя…
Невероятно, но на этот раз все было еше лучше, чем в первый, когда они неистово ласкали друг друга в бассейне. Их соединению ничто не мешало, не надо было опасаться чужого взгляда, непрошеного вмешательства. Но дело заключалось не только в этом.
Пережив высший пик наслаждения, Остин не почувствовал себя опустошенным или беспокойным, как это часто бывало с ним раньше после секса. Он испытывал всю полноту блаженства, счастье обладания.
Спрятав лицо на шее у Кэндис и с наслаждением вдыхая ее запах, он решил, что у них был не просто хороший секс, но сочетание фантастического секса со стародавним, классическим и прекрасным.
В эту драгоценную минуту, когда сердца их бились в унисон, Остин понял, что любит женщину, которая все еще вздрагивала в его объятиях. Любит страстно, и это не имеет отношения к ребенку.
Черт бы побрал Джека.
Остин перекатился на бок, увлекая за собой Кэндис и прижимая ее к себе. Они лежали рядом, в комнате было слышно только их распаленное дыхание да пение птиц где-то далеко за окном.
Может, ему повезет, и Кэндис потеряет свое состояние.
Это его единственный шанс.
— Почему ты плакала? Тебе не понравилось то, что я сделал в детской?
Кэндис боялась этого вопроса. И надеялась, что в жарком возбуждении страсти Остин забыл о ее глупой вспышке.
Может, и не стоило говорить ему об истинной причине. Она сама не понимала свою абсурдную ревность к ребенку, так можно ли ожидать, что он поймет такое?
Уютно устроившись в кольце его сильных рук, Кэндис ощущала покой и радость, каких не знала никогда в жизни. Вздохнув, сказала:
— Все, что ты сделал в детской, просто чудесно. Я плакала вовсе не потому, что мне это не понравилось. Мне все очень нравится, очень.
Она умолкла, и Остин нежно поцеловал ее в макушку, побуждая говорить дальше. Это было ласковое напоминание, совершенно не похожее на злые насмешки и повеления Ховарда и доставившее Кэндис истинное наслаждение.
В конце концов она решила ограничиться полуправдой.
— Ты был таким… держался так отчужденно в последние дни, и я подумала, что ты осуждаешь меня за происшедшее в бассейне.
— За наши ласки? — насторожился Остин.
— Нет! За фотографа. Ласки — это нечто взаимное, только наше… а репортер… почему ты смеешься?
Он действительно рассмеялся. Низким, рокочущим смехом, от которого у Кэндис сильнее забился пульс.
— Потому что я думал, это ты осуждаешь меня.
Кэндис задумалась, взвешивая услышанное, потом сказала с усмешкой:
— Похоже, у нас с тобой что-то неладное с общением.
Остин прижался к ней и произнес прерывисто:
— Я бы сказал, что мы с тобой очень хорошо общались.
Тихонько рассмеявшись, Кэндис ответила:
— Да, но я имею в виду общение словесное. Мы почти не знаем друг друга. Я даже не знаю твое второе имя. Не знаю, живы ли твои родители.
— Ты знаешь больше, чем думаешь.
— Ну, я знаю, что ты терпеть не можешь огурцы, что ты замечательный художник, что ты был бы…
Кэндис прикусила язык и вспыхнула, сообразив, что чуть не сказала «чудесным папочкой». Стоит ли заходить так далеко?
К счастью, Остин не предложил ей закончить фразу.
— Ты права, нам необходимо поговорить. О нас.
Что-то насторожило Кэндис в голосе Остина… Антипатия? Страх? Но с чего бы ему бояться откровенного разговора с ней? Неужели он совершил нечто такое, о чем стыдился поведать ей? Провел какое-то время в тюрьме? Ограбил банк? Убил кого-то?
Или вынужден был бы признаться ей, что он не из тех, кто готов обзавестись семьей, и что не мог бы принять как своего чужого ребенка? Но он ничуть не был похож на бесхребетного человека и вряд ли, оставаясь равнодушным к ее будущему младенцу, стал бы создавать видимость горячего интереса к нему.
Кэндис беспокойно задвигалась, запутавшись в своих предположениях. Она ничего не хотела знать, по крайней мере теперь, когда чувствовала себя такой расслабленной и ранимой после их пылких ласк. Медленно высвободившись из объятий Остина, Кэндис поцеловала его в губы и начала собирать свою разбросанную одежду.
— Хочу показать тебе кое-что.
Кажется, он почувствовал ее волнение, потому что оставался спокойным и молчал все время, пока они одевались. Кэндис взяла его за руку и повела наверх, в свою рабочую комнату; открыла дверь и посторонилась, пропуская Остина вперед.
Когда он увидел кукольный домик, занимавший значительную часть поверхности стола, то подошел ближе и наклонился, чтобы заглянуть внутрь.
Кэндис вцепилась в деревянную обшивку двери так, что у нее заболели пальцы, и, прикусив нижнюю губу, ждала реакции Остина.
Он постоял некоторое время, потом провел пальцами по черепице, потрогал трубу. Протянул руку внутрь и передвинул кресло-качалку, которое она закончила на прошлой неделе.
— Невероятно! Где ты взяла эту вещь? Ручная работа, верно? Я знаю людей, которые заплатили бы огромные деньги за изделия такого качества.
Восхищение Остина, без сомнения, было искренним. Кэндис подошла ближе, стараясь дышать нормально. Быть может, он шутит?
— Одна только эта качалка должна была стоить… — Остин прервал свою речь, лазурно-синие глаза сияли, когда он протянул кресло-качалку Кэндис и показал на резную розочку на спинке игрушки. — Взгляни на это. Имеешь ли ты представление, сколько времени ушло у мастера только на резьбу?
— Две недели, — еле слышно выговорила Кэндис, глядя на кресло, чтобы не смотреть Остину в лицо.
В любую секунду она боялась услышать его насмешливый хохот. Кэндис твердила себе, что это ничего не значит; это всего лишь игрушечное кресло-качалка; всего лишь кукольный домик, полный смешной миниатюрной мебели. Остин вовсе не должен одобрять ее изделия. Этого не требуется, чтобы стать ее другом.
Или ее любовником.
После недолгого и неловкого молчания он повторил:
— Две недели. Откуда ты…
Кэндис больше не могла выносить неопределенность. Она взяла себя в руки и посмотрела в лицо Остину, проклиная в душе дурацкие слезы, которые полились теплым потоком у нее по щекам. Господи помилуй, ведь она наплакала целое ведро!
Убедившись, что в состоянии говорить не всхлипывая, ответила:
— Это моя работа. Я это сделала. — И дотронулась огрубевшими кончиками пальцев до его сжатого кулака. — Все это.
Глава 14
С минуту Остин разглядывал лицо Кэндис, мокрое от слез и сияющее такой пронзительной признательностью, какой ему еще не доводилось видеть. Ему вдруг стало стыдно, что он считал эту прекрасную, изумительную женщину в чем-то похожей на его мать.
В горле застрял ком величиной по меньшей мере с яйцо, но Остин как мужчина, разумеется, не мог позволить себе расчувствоваться; он просто поставил креслице на место и вернулся к Кэндис. Стиснул ее в объятиях и поцелуями осушил слезы.
Прелестно, он не разрыдался, но глаза у него явно были на мокром месте.
— Ты боялась показывать мне, да? — мягко спросил он, гладя Кэндис по голове, в то время как она тихонько плакала у него на плече.
Она кивнула и хлюпнула носом.
— Можешь сказать почему?
Он подозревая, в чем дело, но боялся этому верить. Кэндис подняла голову, и Остин очень нежно взял ее лицо в ладони. Слезы повисли у нее на ресницах и блестели в прекрасных глазах. Он бережно выпил эти слезы и поцеловал Кэндис в губы крепким, быстрым, горячим поцелуем. Потом отпрянул и стал ждать. «Любовь превратила меня в сентиментального олуха», — подумал Остин.
— С Ховардом порой было трудно… — неуверенно начала Кэндис.