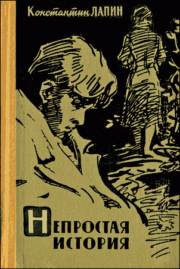Раскачивая ногой, Кирилл старался сбить носком башмака головку увядшего одуванчика, это ему не удавалось.
— И вообще я много глупостей делала. Например, звонила тебе, а когда ты брал трубку, молчала. Однажды ты меня выругал наугад, а мне показалось, что я поговорила с тобой, даже на сердце легче стало. — Холодные тонкие пальцы легли на его руку. — До самого последнего времени я не знала, Кирюша, что у тебя... что Антонина Ивановна...
Об этом он не хотел говорить. Осторожно, чтобы не обидеть ее, он высвободил свою руку.
— Ну, а как ты живешь, Лера?
— Хорошо. В нашей архитектурной мастерской замечательный коллектив. Сам Рудник — ты его помнишь? Тот старик, в которого я запустила диском на вашем капустнике, — ко мне чудесно относится. Уже два месяца я исполняю должность чертежницы. — В голосе ее звучала гордость. — Это ты, Кирилл, советовал мне подумать о строительной специальности, помнишь?
Он-то все помнил. В мастерскую Леру звали сразу после ее дебюта в ансамбле. Но ведь потом столько всего было!..
— А я думал, ты в научно-исследовательском...
— Почему? — не поняла она.
— Просто я подумал... Туда наш... инженер один перешел.
Она прямо посмотрела ему в глаза.
— Ты имеешь в виду Виктора Алексеевича?.. Нет, я бы к нему не пошла!.. Ты еще хочешь что-нибудь о нем спросить?
— А я ничего не спрашиваю, я только слушаю. Это ты пришла ко мне и затеяла весь этот разговор.
— Не для того, чтобы ты снова... — голос ее осекся. — Разве не ты сам первый отказался от меня, Кирилл? Если хочешь знать, с этого все и началось.
— Конечно! Я еще и виноват.
— Я ни в чем тебя не виню, — сказала она устало. — Я одна виновата во всем... Но ты... ты не понял ничего. Тебе не понять, что значит остаться без работы, скитаться по чужим углам... Пусть я сама ушла из своего архива, пусть я не захотела стеснять больше тетю... Пусть отказалась от помощи родителей, отец ведь стал сильно прихварывать... Повторяю: я не жалуюсь, я сама во всем виновата. Но от сознания этого не становится легче. — Лера передернула плечами, словно ей было холодно. — Брр, я до того унизилась, что просилась обратно к Егору Никитичу. Слава богу, у него уже была новая сотрудница, и он ограничился проповедью о том, что каждый пожинает то, что сам посеял...
Имя ее бывшего начальника напомнило Кириллу кое-что.
— Лучше уж ко мне бы обратилась...
— После того, как ты... Э, да что говорить! — Вынув из сумочки сигарету, Лера зажгла ее и неумело затянулась. — К счастью, в самую трудную пору я вспомнила фамилию Рудника. И он, как выяснилось, не забыл меня. Он до сих пор зовет меня дискоболкой... — Она заметила его пристальный взгляд. — Не надо было мне сегодня к тебе приходить, Кирилл. Да я и не к тебе пришла, собственно. Я часто старалась вспомнить твое лицо, улыбку... А такого Кирилла я не знаю — уравновешенного, холодного, забывшего все...
А он спокойно, как чужую, разглядывал Леру. Короткая стрижка делала ее похожей на девочку, но что-то женское появилось в ее лице, в ее фигуре. И никакая она не красавица — чего он нафантазировал? Маленькие серые глаза, слишком крупный рот, нижняя губа выдалась вперед — может быть, оттого, что она закусила сигарету.
— Тебе не идет курить, Лера!
— Это еще не самое страшное в жизни... — Она снова затянулась, отчего стали виднее нитяные морщинки в углах губ и на переносице. — Кстати, не думай, что я каяться пришла.
— А я ничего не думаю.
Домработницы, кончив танцевать, завели бесконечную жалобную песню: «Сними-и мне комнату сы-ру-ую, я буду жить там век одна; приди ко мне хоть раз в неделю-ю, я си-равно люблю тебя». Вовка Борискин, перебравшись с забора к парадному, вел с ребятами теоретический подсчет: какое количество живых мух проглотил бы каждый из них, если бы рекордиста поставили за это в ворота «Спартака» на одну игру?
Кириллу удалось, наконец, сбить носком башмака головку одуванчика.
— Ну, и как же ты живешь, Лера?
— Ты уже спрашивал. По-разному.
— На Фрунзенской набережной?
Ее уже, кажется, нельзя было ни удивить, ни обидеть.
— Нет. К сожалению, гораздо дальше. В мастерской обещают дать жилплощадь в новом доме. Через год его начнут строить.
Он мог бы рассказать ей, как комсомольцы треста обратились в Моссовет с просьбой разрешить им самим построить жилой дом для себя. Разрешение уже получено, комитет ВЛКСМ составил список наиболее нуждающихся в жилплощади. Он не стал записываться: ему с Варей неплохо и в старой квартире. Но зачем все это знать Лере?.. И вообще пусть сама выбирает темы для разговора, если пришла к нему.
— Когда я представляла себе нашу встречу, Кирилл, — сказала Лера, — я думала, что столько всего выскажу тебе.
— Я слушаю.
Он и сам удивлялся своему тону. Было так, словно в нем сидел кто-то другой, спокойный и холодный, а сам он только посматривал со стороны на происходящее.
— Я хотела тому Кириллу рассказать... прежнему.
— А какой он прежде был?
Лера быстро взглянула на него и тут же отвернулась.
— Теперь уж не знаю. Только не такой. Совсем другой.
— И ты была другою.
— Я хуже была, если хочешь знать, — быстро, волнуясь, сказала она. — Я себя не знала, людей не знала. Сейчас немножко знаю. И... чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Так, кажется, говорил некий мудрец?
— Ух, ты! Значит, все мужчины обманщики и изменщики?
— Почему все?.. Зимой прилетал мой одноклассник Игорь Потехин. Я тебе о нем как-то рассказывала, не знаю, помнишь ли. В общем тот, который на летчика учился... Игорек сделал мне предложение. А я в ту пору как раз очень бедствовала, жила у Юльки на птичьих правах... Игорь хотел немедленно увезти меня на Дальний Восток.
— С Москвой расстаться непросто, — вставил Кирилл: он помнил слова Леры о том, что она не мыслит жизни вне столицы.
— При чем тут Москва? Просто я не люблю Игоря. Как он плакал, бедный! Он всерьез полагал, что офицерская форма — все... А с любимым я, не задумываясь, в Урду бы уехала...
Это было уже что-то новое: прежняя Лера об Урде не заговорила. Так-то, видно, и бывает в жизни: один плачет из-за того, что не приняли его предложения, а другой, хоть умри, не подумает предложить руку и сердце. Брак для него, видите ли, слишком серьезная сделка.
— Кстати, ты, Лера, не знаешь, на ком женился Одинцов?
— Кстати, не знаю. И, кстати, не интересуюсь. Но если уж ты заговорил о нем, могу сказать: Виктор Алексеевич по-своему несчастный человек. Да, да, глубоко несчастный! Можешь не улыбаться так иронически.
— Я не над ним, я тебя не понимаю, Лера. Игорь — хороший, Одинцов — несчастный... А кто же плохой тогда?
— Ты! — сказала она просто. — Да, да, ты. Ты, которого я считала самым лучшим на свете... Ты Егора Никитича, жалкого червяка, хотел проучить, а когда Виктор Алексеевич... Ну, хочешь знать все?
— Стоп! — Кирилл даже руку поднял, останавливая ее. Он почувствовал, что вот сейчас, в эту минуту, может услышать такое, что перевернет вверх дном его жизнь, налаженную с таким трудом. — Не хочу!
— Впрочем, где тебе, Кирилл, понять жизнь... Считаешь себя романтиком, а на деле просто мальчик. А я женщина!..
Даже в этот миг, когда, быть может, решалась ее судьба, Лера не унизилась до объяснений. Да и поверит ли Кирилл, больше других знавший Виктора Алексеевича, что этот гордый покоритель сердец, «заманчивый» жених, больше месяца ходил под ее окнами, что он засылал к ней «сватов» и писал чуть ли не ежедневно письма; она их возвращала нераспечатанными. Последнее письмо пришло совсем недавно — отчаянное, сумасшедшее письмо. Она прочла его лишь потому, что адрес на конверте был надписан незнакомой рукой, а внизу стояла неизвестная ей фамилия: «Алексеев». Виктор Алексеевич писал, что в отчаянии женился, не любит свою жену и, если Лера скажет одно только слово...
А было время, Виктор Алексеевич и впрямь нравился ей, волновал ее. Добившись минутной близости, он стал для нее навсегда чужим. Это ли бросило к ее ногам не знавшего поражений гордеца, или пришел и его час в жизни полюбить по-настоящему?.. Глупость, что девушка не может забыть того, кто сорвал первый цвет ее! Это-то она выбросила из памяти. «Ничего не было!» — сказала она себе. А если не было, то незачем знать Кириллу. Он тоже, кажется, стал чужим.
— Поскольку я еще мальчик, мне пора домой.
— И мне. — Она раскурила новую сигарету. — Никто не может войти в положение другого, в этом я твердо убедилась за этот год. Трудный, горький, но... мой год... год моей жизни, которую уже не прожить второй раз по-другому.