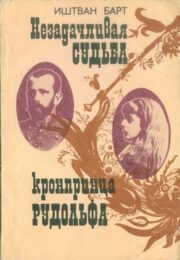Вот только неизвестно, в чем суть инцидента.
В свидетелях — имеется в виду не только графиня, но и подлинные очевидцы — недостатка нет; выяснилось, что многие из приглашенных дам втайне вели дневники, а послы в силу своих служебных обязанностей сохранили для нас всевозможные придворные сплетни. Но вот в чем загвоздка: все показания не сходятся даже в главном: что же все-таки произошло? Каждый из очевидцев видел и слышал совсем не то, что остальные. К сожалению, нам придется довольствоваться этими свидетельствами, поскольку даже прочие, более существенные документы, связанные с самоубийством (самоубийством ли?) Рудольфа, также далеко не однозначны.
Прием начался в половине десятого вечера; нам этот час может показаться довольно поздним, но, если мы желаем в какой-то мере постичь эту невероятную историю, придется свыкнуться с мыслью, что изображенные на старинных фотографиях люди, вроде бы ничем не отличающиеся от нас самих, не только жили в другом ритме, но чуть ли не дышали по-другому. У человека "служилого сословия" вроде Рудольфа, в то утро с девяти часов уже корпевшего в казарме Франца Иосифа над бумагами, а в девять утра на следующий день занимавшегося тем же самым, но только у себя в кабинете, не было возможности долго разгуливать по залам германского посольства.
Однако вернемся к теме об инциденте — или инцидентах, — происшедшем во время приема. Но спервоначалу — чтобы задать нужный эмоциональный тон, а заодно и воспользоваться случаем, который впоследствии может нам не представиться, — сделаем отступление, расскажем, каким видела в тот вечер Рудольфа леди Пэйджет, супруга британского посла: принц "…выглядел подавленным, печальным, и видно было, что он едва сдерживает слезы". Подумать только — слезы! Английская леди, вероятно, обладала на редкость острым зрением, коль скоро ей удалось подметить такую деталь, которая укрылась от взглядов всех остальных. А впрочем (в особенности если задним числом продумать случившееся), как же еще мог выглядеть утонченный принц благородных кровей за два дня до самоубийства? Да и вообще в те времена питали склонность к томной грусти.
Зато многие обратили внимание на баронессу Вечера и ее дочь Мери — уже хотя бы потому, что дамы эти перешли границы хорошего вкуса, навешав на себя неимоверное количество драгоценностей. Тут они "перещеголяли" особ императорской фамилии, а это считалось неприличным. Однако еще заметнее оказалось поведение Мери, о чем пишет генерал Бек, в котором трудно предположить натуру романтическую: "Мери ни на секунду не отрывала жгучего взгляда от наследника". Необходимо заметить, что беспристрастность генерала весьма сомнительна: Бек — как, впрочем, и весь генеральный штаб — продолжал ненавидеть Рудольфа даже после его смерти, поскольку наследник, будучи главным инспектором пехоты, требовал для себя полномочий вмешиваться в дела армии, то бишь в дела государственной важности. В противоположность генералу граф Йозеф Хойос был искренним другом Рудольфа, но и его заземленно-прозаические, изобилующие мелочными подробностями мемуары набирают пафос, когда граф пишет о девушке: "Вспоминая о том вечере, я нахожу примечательным, что ко мне дважды обращалась баронесса Мери Вечера, с которой мы были едва знакомы. Юная, еще не достигшая двадцатилетия дама на сей раз привлекала всеобщее внимание своей блистательной красотой. Глаза, казавшиеся еще больше обычного, мрачно пылали, она была словно раскалена каждой клеточкой своего существа". Давайте отметим для себя, что все мемуаристы обращают внимание на глаза Марии; неужто лишь потому, что роковым героиням дешевых "венских романов" предписывалось обладать "огненно-страстными черными глазами"? Во всяком случае, граф Нигра, охочий до сплетен итальянский посол, также пишет в своем донесении (донесении, а не в частном дневнике!), что "девушка не сводила с Рудольфа глаз". Или в тот вечер все присутствующие, словно сговорившись, следили за этой парой, или Марию никогда не видели столь оживленной, как за два дня до ее смерти. Она словно бы уже знает, что стала героиней романа.
А между тем, судя по всему, Мария провела насыщенный событиями день: побывала (если это правда) у графини Лариш и имела тайное свидание с Рудольфом, который, кстати сказать, также навестил в тот день графиню в ее гостиничных апартаментах, и, может, даже не однажды. Но уж один-то раз наверняка: "Января месяца, дня 27-го, в 10 часов утра К. Р. (кронпринц Рудольф) появился в гостинице и посетил графиню Лариш в ее апартаментах. Продолжительность визита неизвестна. Полицейский инспектор Юрка".
Упоминается об этом утре и в резюмирующем (составленном уже после трагического случая) донесении Фридриха Хайде, советника столичной полиции: "…в 11 часов утра ожидающий возле "Отель Империал" посыльный № 198 принял от графини Лариш небольшой сверток и записку с поручением доставить и то и другое в Хофбург и вручить самолично его императорскому высочеству кронпринцу Рудольфу. Наследник, который в это время был занят с господином подполковником Майером служебными делами, после того как лакей доложил ему о прибытии посыльного, удалился из кабинета и написал ответ, каковой и был вручен посыльному". Можно заключить, что к Рудольфу несложно было попасть, если знать его местопребывание. Не менее любопытен и другой напрашивающийся вывод: венские нарочные, выполнявшие множество поручений доверительного характера, выходит, знали не только путь, ведущий к апартаментам престолонаследника, но и круг интересов полиции. От кого другого мог получить советник полиции Хайде сведения о сверточке и приложенной к нему записке, если не от самого посыльного № 198? В полицейском околотке донесение это вложили в соответствующее досье, а может, и оформили соответствующим протоколом, с тем чтобы со временем, если возникнет необходимость, составить обобщающий доклад для барона Крауса, возглавлявшего столичную полицию, а тот в свою очередь переправил бы его премьер-министру и министру внутренних дел графу Тааффе, на столе которого этот документ лег бы рядом с копиями телеграмм, отправляемых и получаемых Габсбургами всех рангов, — до изобретения телефона телеграф был в большом ходу; телеграммы эти, по указанию Франца Иосифа, обязан был собирать воедино министр коммерции, к ведомству которого относилась и почта. Ну а если даже из этих источников император получал не исчерпывающую информацию, то необходимые дополнения вносили рассказы Катарины Шратт, преданной подруги императора, актрисы придворного театра; не в последнюю очередь она снискала расположение венценосца тем, что снабжала его всеми городскими сплетнями. Посудите сами: сколько забот-хлопот у добросовестного правителя державы и главы семьи! Возможно ли, чтобы за пределами его внимания остались любовные дела собственного сына и наследника?
Ведь благодаря информации от некоего доктора Майс-нера барон Краус — а значит, и граф Тааффе, а тем самым и император, если ему было интересно (а ему все было интересно), — узнал и о том, что "…в последние недели К. Р. и госпожа Куранда, супруга владельца гостиниц в Опатии, несколько раз наведывались к фрау Вольф (сводне, подвизавшейся в аристократических кругах), с тем чтобы та устроила им свидание; однако фрау Вольф их просьбу отклонила". Наверняка у фрау Вольф хватило ума сообразить (неспроста же к ее услугам прибегала такая клиентура), что она может себе позволить, а чего — нет.
Однако, возвращаясь к 27 января 1889 года, приведем еще одну цитату из донесения полицейского советника Хайде: "Того же дня, в половине второго пополудни, наследный принц в мундире кавалергарда вновь появился у "Гранд-отеля"… Ожидавшие перед гостиницей извозчики, признав его императорское высочество, наперебой бросились предлагать свои услуги…"
Следовательно, у Рудольфа тоже выдался хлопотный денек; в тот же день после обеда его видели в Пратере в обществе графини Лариш, и, на беду, свидетельницей этой оказалась его свояченица княгиня Луиза фон Кобург. Стоит ли после этого удивляться, что в десять вечера на посольском приеме Рудольф выглядел усталым и раздраженным?
Ну а теперь не станем более откладывать описание того рокового эпизода, который — хотя и сохранился лишь в мемуарах графини Лариш и не вызывает полного доверия — определенно может рассматриваться как обобщенное доказательство, несомненно, необычной (напряженной? мучительно неприятной?) атмосферы вечера, а с точки зрения литературной — безукоризненно убедительного кульминационного момента.