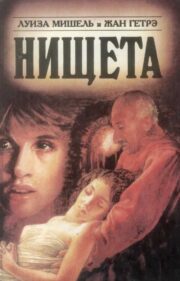«Скажите господину К., на которого я трудился шестьдесят лет, что уже второй из рабочих, чьими руками созданы его богатства, умер голодной смертью».
Поощренная вниманием Бродара, старуха продолжала:
— Знаете, этому господину К. принадлежит в Париже целый квартал. Говорят, он оставит своим детям свыше тридцати миллионов. Они ждут не дождутся наследства, только о том и думают — когда же он наконец протянет ноги… Но, не правда ли, милейший, на свете должны быть богатые и бедные? Такова воля божья. Если бы не существовало бедняков, то нельзя было бы творить добрые дела.
— Вы говорите, его похоронили вчера? — спросил Жак, обретя наконец дар речи.
— Да, за казенный счет. Я с неделю его не видела, думала, что он на работе. Ведь он жил тихо, как мышь. О его смерти узнали, лишь почувствовав трупный запах.
— Неужели внучки не приходили его проведать?
— Внучки? Такие-то дряни? Хоть и молоды, а уже испорчены до мозга костей… Это у них в роду: недаром и отец на каторге. Он, должно быть, закоренелый преступник, ведь его судили дважды: первый раз — за поджог, второй — за то, что он хотел убить агента полиции. А ведь полиции надо подчиняться, не правда ли, любезный? Ведь полицейские охраняют порядок.
Ее овечья физиономия приняла торжественное выражение.
— Поверите ли, любезный: после того как его простили и разрешили ему вернуться из ссылки, он вместе с сыном стал убивать детей. А парню нет еще и шестнадцати! Старшая дочь — на панели, продается любому. И этой шлюхе еще доверяют воспитывать сестер! Ей-богу, правительство чересчур мягко относится к таким тварям!
Все это она выпалила единым духом, подбоченясь и останавливаясь лишь для того, чтобы взять понюшку табаку.
— Не хотите ли? — предложила она, протягивая Бродару тавлинку.
— Нет, спасибо! — отказался тот.
Сначала Жак вспыхнул от негодования, но мысль о дочерях заставила его сдержаться.
— Мне поручено отыскать эту семью, — сказал он. — Если вы можете что-нибудь о ней сообщить, будьте спокойны, я в долгу не останусь.
— Да ведь с такими людьми опасно иметь дело. Это, наверное, запрещено. Дедушка их, что ни говори, был человек честный, и хотя он никогда не просил у меня хлеба, я охотно поделилась бы с ним. Но остальные — право же, не стоит с ними связываться.
— Так вы не знаете, где живут дочери Бродара?
— Знаю ли я? Конечно, не знаю, и знать не хочу!
Во время этой беседы вошла девочка лет десяти — живая, большеглазая, гибкая и стройная, как газель. Снимая школьный ранец, она прислушалась к разговору и поняла, что кто-то интересуется сестрами Бродар, ее бывшими подругами по школе. Обрадовавшись, что им хотят помочь, она вмешалась:
— Я знаю, где они живут, я встретила их с месяц назад. Их выгнали из двух школ, и они очень плакали. Они переехали на улицу Амандье, дом номер двадцать.
Бродар не мог отвести от девочки глаз: она чем-то напомнила ему Софи. Но старуха подскочила к ней и дернула за руку.
— Я же тебе запретила разговаривать с ними!
— Я забыла об этом… И ведь они плакали! — ответила девочка.
Бродар вынул из кармана последнюю пятифранковую монету и отдал ей:
— Вот, купи себе игрушку!
Он поспешил на улицу Амандье. На этот раз он их увидит! Не стоит обращать внимание на все гадости, какие о них говорят. А что, если они тоже умерли с голоду, как дядюшка Анри?.. Жак несся почти бегом.
Но дом № 20 на улице Амандье ремонтировался; уже три недели, как из него выехали все жильцы.
— Это слишком! — воскликнул Жак. — О, это уже слишком!
Он застыл, глядя на воздвигнутые вокруг дома леса, на простенки, рушившиеся под ударами ломов.
— Берегись! — закричали ему, но он не обращал внимания. Какой-то рабочий спустился и тряхнул его за плечо.
— Эй, дружище!
— Да… да… — пробормотал Бродар.
Вдруг ему пришла в голову мысль, что этот человек мог бы ему помочь.
— Не знаете ли вы кого-нибудь из прежних жильцов этого дома? — обратился он к рабочему.
— Откуда нам знать, старина? Мы — из Сент-Антуанского предместья. Нас, всех пятерых, нанял господин К. Он решил перестроить дом так, чтобы все квартиры до четвертого этажа стали вдвое просторнее, а от четвертого до чердака — вдвое теснее. По его словам, для мебели, которой нет, места всегда должно хватить. И все-таки грустно, что мы, бедняки, должны проделывать это собственными руками!
— Это правда, — заметил Жак. — Сами богачи не сумели бы построить тюрьмы для невинных людей или же превратить наши жалкие жилища в еще более жалкие клетушки.
Он пошел дальше, раздумывая, что теперь делать? Быть может, жители соседних домов знали его дочерей: ведь они ходили сюда за хлебом, овощами, солью и прочим. Он обошел лавку за лавкой, расспрашивая, не знает ли кто-нибудь девушки лет семнадцати и двух девочек в возрасте восьми и десяти лет, проживавших вместе с нею в доме № 20. Но когда он называл их фамилию, ему отвечали, что не слыхали о таких.
Бродар не чувствовал усталости. Он шел как заведенная машина. Несмотря на холод, пот выступил у него на лбу. Его странный вид не внушал доверия, и с ним старались долго не разговаривать.
Обойдя все лавки и убедившись, что никто не даст ему нужных сведений, Жак отправился дальше. Он все шел и шел. В его ушах шумел океан, ему вспоминался корабль, на котором он плыл во Францию. Вскоре мысли его стали путаться; ему вдруг почудилось, будто сам он блуждает по волнам. И, словно корабль, потерявший управление и идущий ко дну, Жак рухнул на мостовую. Наступила ночь, а он ничего не ел со вчерашнего дня.
Это случилось на улице Глясьер. Сколько улиц и переулков успел он уже пройти? Кто знает? Пока беда не стряслась, никто в нее не верит, никто не пытается ее предотвратить. Отверженных притесняют все, притесняют при каждом удобном случае. Но когда несчастье уже свершилось, все сбегаются, чаще всего потому, что поправить дело уже невозможно. Так вышло и на этот раз: поднимать Бродара бросилось человек десять. А за минуту до этого не нашлось никого, чтобы ему помочь…
Жака в глубоком обмороке перенесли в аптеку. Его привели в чувство, и по бессвязным словам, по мертвенной бледности лица поняли, что желудок его совершенно пуст. Ему стало легче после того, как он немного поел. Тем временем какой-то любопытный заинтересовался содержимым бумажника, выпавшего из кармана Бродара, когда его вносили в аптеку. Все увидели паспорт на имя Лезорна, с пометкой «Бывший каторжник».
Тотчас же аптека опустела. Матье, по прозвищу Лезорн, из шайки Сабуляра! Кто-то утверждал, что именно он — глава шайки. Раздались приветственные возгласы в честь того, кто поднял бумажник и первым в него заглянул. Сей щеголь со смазливой, но невыразительной внешностью совершил в своей жизни только этот подвиг, да и то благодаря своему любопытству. Такой триумф выпал на его долю, вероятно, впервые. Вечером у содержавшей его старой распутницы он имел возможность вторично стяжать себе лавры и насладиться успехом, рассказывая об этом событии.
Оставшись один с аптекарем и его помощником, Бродар понял, что произошло, и поднялся, намереваясь уйти. Он безропотно подчинялся судьбе. Все это было следствием того, что он принял имя Лезорна: за свободу, как, впрочем, и за все в этом мире, надо платить.
Аптекаря изумил печальный тон, каким Бродар на прощанье вежливо произнес:
— Мне очень жаль, сударь, что меня принесли сюда. Но, понимаете, я был без чувств…
На улице уже собралась толпа поглазеть на бывшего каторжника. Разная бывает толпа: иногда собирается простой народ, презираемое большинство, жертвы притеснения и произвола; но порою стекается чернь, та, что участвует в карнавальных шествиях, глазеет на казни, тупоумная, любопытная и жадная чернь, подобная стаду баранов, покорно идущих под нож или кидающихся в пропасть: куда один — туда и все. Именно такая толпа и ожидала выхода Жака. Он молча двинулся навстречу, готовый к любым испытаниям. «Ради детей я должен вынести все. Зато я увижу их!» думал он.
Вдруг к нему подошла какая-то старуха, с лицом, сморщенным, словно печеное яблоко.
— Пойдемте ко мне! — сказала она.
Несколько порядочных людей, случайно затесавшихся среди сборища зевак, расступились перед старухой, остальные продолжали зубоскалить.