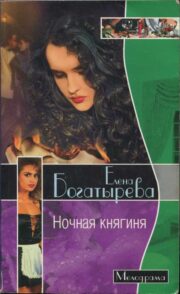— Неужели им это нравится? — удивленно спросила Алиса.
— Вряд ли. Сбегут при первой же возможности. Или в дом умалишенных папашу определят, когда вырастут.
Оригинальность хозяина они всецело смогли оценить, застав его за необычным занятием. Мальцев восседал на балконе своего дома, окруженный своеобразной свитой, и смотрел на пруд неподалеку. В пруду плескались голые девки и бабы, поднимая тучи брызг и натужно хохоча. У пруда стоял человек с коробкой конфект и поглядывал то на Мальцева, то на мокрых и охрипших баб. Когда указательный перст Сергея Ивановича останавливался на какой-нибудь купальщице, человек тут же выдавал ей конфекту. Баба кланялась, жевала и продолжала свое занятие с удвоенным энтузиазмом.
Алису с Германом провели наверх. Мужчины деловито поздоровались, и тогда из-за спины Германа вышла Алиса.
— Это та самая, что у тебя под опекой?
— Алиса Форст. — Алиса присела так, как их учили в Смольном.
— Смотри-ка! А не ты ли, милая, будешь и ночной царицей, тьфу, бес попутал, княгиней то есть?
— Я смотрю, слава твоя велика, — усмехнулся Герман, подбадривая Алису взглядом. — До Людиновских заводов докатилась.
— До Людиновских, положим, не докатилась, а вот до дворцовых паркетов — да… Заинтересовались там княгиней-то. Особенно после самоубийства Петрухи Трушина. Говорят, из-за нее, окаянной, — усмехнулся в бороду Мальцев.
— Ах, — вскрикнула Алиса, — что вы такое говорите? Неужели Петр Иванович преставился? Царствие ему небесное.
— Ну-ну, только обмороков мне тут не хватало. — Мальцев поверил искреннему тону и ужасу, застывшему в глазах девушки. — Небось от морских моих наяд не покраснела. Чего уж тут сантименты разводить?!
Алиса перевела взгляд на пруд, на продрогших баб. Потом умоляюще посмотрела на Германа и самым натуральным образом побледнела — и непременно упала бы, не поддержи он ее под локоток.
— Ну будет, будет, — пристыженно сказал Мальцев. — Прикажи расходиться, — гаркнул он кому-то, указывая на пруд. — Какие нежные эти барышни, — сказал он на ухо Герману, приглашая его следовать за ним. — Пусть пока с девчонками моими познакомится. Будет им о чем потолковать. А нам — с тобой.
Беседовали они, запершись в кабинете, о разном. О винных откупах. О стеклодувном деле, о хрустале. Мальцев долго расписывал Герману историю строительства хрустального дворца, возведенного в Симеизском поместье, в Крыму… Жаловался на столичных финансистов, казнокрадов да мистификаторов.
— Как любит поговаривать Вяземский, — усмехался Мальцев, — мистификация — это искусство наподобие театральной драмы, спектакль. К чему трудиться, не лучше ли ломать комедию? И знаете ли вы, сколько таких спектаклей по России разыгрывается? Сотни, тысячи, а то и сотни тысяч. Рассказывал мне тут один знакомец из Третьего отделения…
Герман слушал вполуха. Мистификации были ему ближе восхваляемого Мальцевым труда, а пути, им указанные, возбуждали тягу к капиталу. С капиталом-то совсем другой разговор — можно в акционеры податься к золотопромышленникам, а еще лучше — в банке каком долю выкупить.
А тем временем Мальцев свой рассказ продолжал:
— …так вот этот Андрейка, хоть еще молоко на губах у дурня не обсохло, а докумекал, как под самыми окнами императорского дворца деньгу зашибать. Выписал сам себе приказ, чтобы в Летнем саду в шляпах и кушаках не гуляли. Наказание — порка плетьми. И приставал к горожанам со своей липовой бумаженцией. Те, никогда ничего не слышавшие о таком указе, но знавшие, что император Павел Петрович и не на такое горазд, верили и откупались от Андрейки чем могли — кто рублем, кто полтиной.
Осоловелый хозяин перестал представлять для Германа интерес, и он поспешил в дорогу, несмотря на глухую полночь. Экипаж, выданный хозяином, довез их с Алисой до ближайшей почтовой станции, где они с облегчением пересели в почтовый.
Чтобы заняться акцизной деятельностью, винными откупами, нужна была крупная сумма. Поэтому на обратном пути в Петербург они ненадолго остановились в Москве, у знакомого ювелира, которому Герман предложил коллекцию Марцевича — все предметы разом или по отдельности. Ювелир юлил и вздыхал, охал и ахал, но все-таки порешили на том, что продавать вещи он будет негласно — в течение трех месяцев.
Можно было, заручившись бумагами из министерства, сколотить целое состояние. Да только вот беда, по возвращении в Петербург их ожидал пренеприятнейший сюрприз. Когда Герман с предосторожностями открыл свой сейф, то ничего там не обнаружил. Сейф был абсолютно пуст.
Приступили с расспросами к Любаше: кто приходил, кого пускала? Та отпиралась, но, не выдержав допроса с пристрастием, разрыдалась и, всхлипывая тоненько, каялась и просила прощения. Чтобы подбодрить ее, Герман сказал, что украдена сущая безделица — серебряный портсигар. Любаша хныкала. Она страшно боялась колдуна-хозяина, а дело было до того интимное, что поведать о нем мужчине — стыд кромешный и позор.
Как только хозяева уехали, приударил за ней приказчик. Не то чтобы хорош собой, да больно напорист. И ухаживал по-человечески. Пирожных принес, чай просился попить. Шутки шутил такие, что Любаша чуть кипятком не обварилась. Но всего-то шлепнул разок по заду да ушел.
Но это все в первый раз. Во второй иначе. Хотя, кроме шлепка, опять — никаких приставаний. В третий — кататься позвал. В коляске приехал, как фон-барон. Увез на Каменный остров. Да там в кустах, к вечеру, и состоялась у них любовь. Домой доставил Любашу помятой и пунцовой. Ключ тогда в двери повернулся как-то сразу. Она уж решила, что сгоряча забыла запереть. Да было никак не вспомнить.
И еще приходил три раза приказчик. Прямиком к ней в комнатку, не слушая никаких отказов. Что-то в нем такое было — в глазах, в походке. Что-то страшное. А в последний раз как оделся да собрался уходить — замешкался. В дверях стоял и смотрел исподлобья. Дикий стал совсем, хмурый. У Любаши, что в платке его провожать вышла, ноги подкосились. Вот сейчас возьмет и задушит. От страсти или как — одному Богу ведомо. И так она от страха вся встрепенулась, кинулась к нему и давай целовать, касатиком называть, в любви клясться. И что-то в нем дрогнуло. «Живи, — говорит. — Помни меня». А Любаша за ним на лестницу: «Век не забуду, касатик. Ты только кликни, ежели что…»
Выслушав се неприхотливый рассказ, Герман покачал головой. «Никогда не нарушай заповедей!» — сказал он, подняв палец вверх с радостной улыбкой. Любаша, принявшая сказанное на свой счет, зарыдала еще пуще, а Алиса удивленно посмотрела на Германа и тут же прищурилась, словно что-то отгадав.
Герман понял, что в доме побывал Тимофей — его бывший подручный. Другие могли бы унести безделушки, которыми напичкан шкафчик Алисы, прочий блестящий хлам, раскиданный по дому, однако все оставалось в целости и сохранности. Так что искали целенаправленно и профессионально.
Заповедь, упомянутая Германом, по поводу которой теперь так убивалась Любаша, не имела к ней никакого отношения. Эту заповедь Герман сочинил сам и втолковывал Тимофею, пока их пути-дорожки не разошлись. Так, по крайней мере, казалось Герману — разошлись. Ан нет. Тимофей и не думал терять Германа из виду. Следовал за ним незримо. Сейф был цел, значит, действовал он не один, а с умелым медвежатником. Действовали не торопясь — сняли слепок, смастерили ключ. Единственное, что упустил из виду Тимофей, — нарушение заповедей Германа смерти подобно. Сколько раз он повторял ему! Ну что поделаешь… Никогда не оставляй свидетелей — гласила заповедь. Ни по жалости, ни по невниманию, ни по любви. Пробрала его, видать, Любашина мордашка настолько, что забылся лиходей. Ну что ж. Если он Германа вычислил, Герману найти его будет еще проще…
С вещичками из сейфа далеко не уйдешь, не уедешь. Тимофей человек простой, рассуждал Герман, взял для барыша, предпочтительно — скорого. Тем более и с напарником делиться придется. А простейший путь — сунуться к скупщикам ювелирных краденых вещичек. Умных людей тут — раз-два и обчелся. Те, кто надо, их поименно знают: И лучший приятель Германа из Третьего отделения, разумеется, знал. И скромен был, не в пример другим. Много за информацию не спрашивал. Сунешь векселек-другой — скорчит кислую гримасу, и вся недолга.
По первому же адресу, где самый известный скупщик, а точнее скупщица, проживала, Германа привело провидение. Утратившая аристократизм графиня Оленина была занята, и прислуга — седая старушенция в грязном переднике — предложила Герману обождать в прихожей. Занятие Олениной выходило бурным и голосистым. Слов было не разобрать. Но вот голоса… Первый принадлежал хозяйке, а второй Герман узнал сразу — Тимофей.