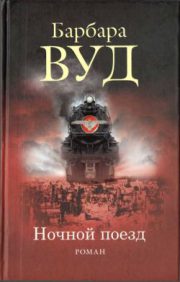– Не нас надо благодарить, а самих немцев. Как раз на это я очень рассчитывал. Я ожидал, что они не станут слишком тщательно обследовать пациентов из-за опасения заразиться. Если бы они так не пеклись о собственной безопасности, доктор Мюллер и его спутники внимательнее обследовали бы наших так называемых больных тифом и обнаружили бы, что те неплохо играют свои роли. Но осторожные немцы вместо этого поверили результатам анализа Вейля-Феликса. Так что видите, друзья мои, как это ни смешно, не мы спасли себя от немцев, а немцы избавили нас от самих себя.
Они вернулись к обычной работе, будто ничего не случилось. Мария и Ян продолжали колоть больных вакциной протеуса, а Анна с Гансом в склепе готовили ее. Лето прошло как сон, спокойно, никого не мучили кошмары войны, которая опустошала другие местности и города Польши. Шукальский ежедневно посылал Шмидту свои доклады. Эпидемия развивалась своим чередом. Жители Зофии продолжали делать вид, что их схватила за горло самая тяжелая эпидемия тифа, какую в Польше никогда ранее не приходилось испытать.
Макс Гартунг вскоре после возвращения в Варшаву получил приказ о переводе с должности командира «Einsatzgruppe» на пост заместителя коменданта лагеря смерти в Майданеке, что близ Люблина. Он принял эту должность со свойственным ему достоинством и вскоре не без мрачного удовлетворения обнаружил, что она дает ему возможность полностью излить свой гнев и ненависть. Гартунг заслужил в лагере кличку Бешеная Собака, которая останется за ним до самой смерти.
К концу 1943 года становилось ясно, что его карьера в рейхе закончится, когда под натиском русских развалится Восточный фронт. Поэтому единственная надежда Макса Гартунга была связана с крематориями Майданека.
Он собирал и припрятывал бриллианты и золото тех, кого в крематориях превращали в пепел.
Лето 1944 года принесло надежду на то, что в Польше наступит новая жизнь. Красная армия вытесняла немцев со своей территории, нацисты проигрывали войну. В Польше повсюду говорили, что конец войны близок, и Зофия стала одним из городов, в котором перспектива освободиться от немцев возродила дух и надежды ее жителей.
Ян Шукальский стоял у окна своего кабинета и смотрел на освещенные солнцем здания, на деревья, облачавшиеся в новые листья, и вспомнил похожий день год назад, когда он ездил с немецкой делегацией в деревню Славско. Какой страх охватил его тогда и сколь велика разница между тем и этим днями!
Сегодня он мог оглянуться на прошедшие два с половиной года «эпидемии» и сделать вывод, что они одержали победу.
– Завтра я еду в Краков, – тихо сказал он Марии Душиньской, которая стояла в нескольких футах позади него, – на тот симпозиум по инфекционным болезням, о котором я вам говорил. Шмидт дал мне разрешение на поездку.
– Я удивлена.
– Я нет. Я говорил ему, что поеду туда, чтобы найти способ остановить эпидемию.
– Вы там долго пробудете?
– Думаю, что нет. Симпозиум пройдет за два дня. Но мне придется ехать в Сандомеж, чтобы успеть на поезд. Не знаю, сколько времени потребуется для этого. Отец Вайда может довезти меня до границы, где кончается эпидемия. Оттуда до поезда я смогу дойти пешком.
Шукальский отвернулся от окна и улыбнулся Марии. У него сегодня было хорошее настроение.
– Это поразительно, правда? Только подумать! Два с половиной года свободы от нацистов.
Мария тоже улыбнулась ему. Боль, причиненная ей Максом Гартунгом, давно исчезла. После его бесславного отъезда Мария даже обнаружила, что, узнав правду о нем, она вдруг обрела новую радость в больничной жизни.
– Ян, только не будьте слишком уверены. Нас все еще могут разоблачить.
– Да, я знаю. Но в эти дни, Мария, нам не грозит опасность потерять весь город, как это было год назад. Сейчас нацисты отступают, они перешли к обороне. Каждый боеспособный мужчина нужен Гитлеру для фронта. Думаю, он не станет отвлекать личный состав и артиллерию, чтобы стереть с лица земли незначительный городок. Не сейчас.
– Но нам все еще грозит опасность.
– Это верно. Нам она всегда грозила и, вероятно, всегда будет грозить. Но подобный риск никого из нас не запугал. Вот что значит быть партизаном.
– Вам ведь нравится это слово, правда? И вам приятно думать, что вы партизан.
– Никто не узнает, как я горжусь тем, что способен бороться за свою страну. У меня вот здесь что-то происходит.
Он похлопал себя по груди.
– А ведь это действительно забавно. Нам не удастся поделиться опытом той битвы, которую мы ведем без единого выстрела.
– Мария, мы спасли тысячи жизней, и это самое главное.
Ян Шукальский снова взглянул в окно. Он смотрел на распускавшиеся цветы.
Отец Вайда отвез Шукальского до границы района, находившегося под карантином. У дорожного контрольно-пропускного пункта доктор показал свое разрешение на проезд дежурившей там охране, затем терпеливо ждал, пока его брюки и спину опрыскивали ДДТ. Его небольшую дорожную сумку открыли и также подвергли дезинфекции.
Прежде чем пойти дальше, Шукальский сказал священнику:
– Встретьте меня здесь послезавтра в полдень.
Затем он прошел четыре километра от контрольно-пропускного пункта до Сандомежа, где спустя два часа сел в поезд, идущий в Краков.
Краков изменился. Повсюду стояли танки и артиллерия. На улицах встречалось больше солдат, чем гражданских лиц. Мостовые были усеяны разбитым стеклом, что говорило о столкновениях с движением Сопротивления. Здания были заколочены досками. Парки остались неухоженными. Гневные надписи обезобразили стены. Но дело было вовсе не во внешнем виде. Краков не пострадал столь значительно, как другие польские города. Шукальского поразило царившее в городе настроение. В то время, как в мирной Зофии люди могли в целом вести прежний образ жизни, населению Кракова пришлось испытать всю тяжесть оккупации.
Перед Яном вставали картины счастливого детства, проведенного здесь. Он прошел мимо Дворца Чарторыских и вспомнил студенческие годы, как ходили по этим тротуарам студенты и за гроши играли на скрипках и аккордеонах. Выйдя на большую мощеную площадь в центре города, он не заметил солдат гарнизона и облепленных грязью танков. Вместо этого бросились в глаза те же флаги и статуи апостолов, которые ставили здесь к празднику Тела Христова, когда он с родителями вставал на колени и молился. Осматривая внушительное сооружение Сукеннице,[32] он не заметил красных нацистских знамен, здесь когда-то был рынок цветов, и он вспоминал мать, которая в этом месте выбирала букеты.
Шукальский пошел дальше. Это был другой Краков. Того, в котором он родился и вырос, больше не существовало.
Он пришел к стенам Казимежа,[33] испещренным желтой краской и непристойными проклятиями антисемитов. Эту массивную стену венчала колючая проволока, и Шукальский вспомнил те дни, когда он с матерью шел через еврейский рынок и как его, маленького мальчика, тогда завораживали люди в длинных черных пальто и меховых шапках, у которых над каждым ухом, словно штопоры, опускались завитушки. Ян знал, что этих евреев уже нет. Это гетто уже не было забито до отказа. Последний раз, в 1939 году, он слышал, что здесь, в этом жалком гетто, теснились пятьдесят тысяч евреев. Сегодня, когда существовали лагеря смерти и проводилось «окончательное решение», осталась лишь горстка евреев.
Ян Шукальский направился к Ягеллонскому университету, где на следующий день должен начаться симпозиум. Конечно, с 1939 года, когда все учебные заведения закрыли, знаменитый университет Кракова тоже перестал работать и поляки уже не могли получить высшее образование. Но этому симпозиуму покровительствовали немцы, большая часть участников тоже были немцы, и поэтому один из залов университета открыли для заседаний.
Когда он увидел статую Костюшко на Вавельском холме, воскресли другие мучительные воспоминания. О том, как он сидел в тени стен четырнадцатого века и изучал медицинские книги. О том, как он иногда прогуливал занятия, чтобы покататься на лыжах в Татрах. О том, как встретил Катарину в маленьком кафе на следующий день после получения диплома врача.
Но Шукальский знал, что от воспоминаний тех счастливых дней лучше не станет. Он прибыл в Краков по очень важной причине и не мог позволить себе такую роскошь, как предаваться ностальгии.
Большинство гостиниц в городе либо закрылись, либо поляков в них не пускали, и доктору Шукальскому пришлось снять небольшую комнату в частном доме. Заплатив безумную цену в три злотых домовладелице, которая охотнее взяла бы немецкие марки, он отправился спать.