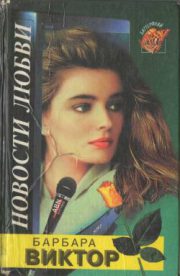– Алло.
Я немного медлю, прежде чем тоже сказать «алло». После второго гудка трубку снял родитель.
– Отец, это Мэгги. Я вернулась в Нью-Йорк. Куинси отводит глаза.
Отец тоже немного медлит, а потом говорит: – Ну-ну, ты вернулась в Нью-Йорк, но у тебя не было возможности известить нас об этом.
– Как ты, отец? – спрашиваю я, не обращая внимания на его иронию.
– Я-то в порядке, а вот твой звукорежиссер, как я слышал, не в такой отличной форме. Говорят, эти чертовы арабы вышибли ему мозги? Нечего сказать, отблагодарили за труды.
Всего лишь одна фраза. Два десятка слов. Каждое из них эхом отдается у меня в голове. В моей памяти мгновенно прокручивается вся дрянь, которая случалась в семье Саммерсов, пока в ней подрастала маленькая Мэгги. Что я могу ответить родителю – я должна защищаться, нападать, оправдываться? Нет, все это уже слишком устарело. Мои глаза наполняются слезами – обычная моя реакция. Так было всегда, когда я слышала свое имя в устах родителей.
– Мама там?
Родитель и не думает отвечать. Сегодня он уже достаточно мне наговорил.
Я слышу голос родительницы, который полон обычного нетерпения и разочарования. И то и другое знакомо мне с детства.
– Здравствуй, Маргарита, – говорит она.
– Что случилось, мама? У тебя ужасно расстроенный голос.
Куинси качает головой и закуривает.
– Ничего, – отвечает родительница. – Когда ты вернулась?
– Вчера, – лгу я.
– Ты знаешь, Клары нет. Она уехала с семьей в отпуск.
– Знаю, мама. Хочешь приехать сегодня ко мне?
К моему удивлению, родительница не только соглашается, хотя обычно весьма тяжела на подъем, но даже, кажется, готова отправиться немедленно.
– Сейчас возьму такси и буду через пятнадцать минут, – говорит она и кладет трубку.
– Ну? – спрашивает Куинси.
– Старая история, – отвечаю я. – Только на этот раз я услышала в ее голосе разочарование. Мне это с детства знакомо. Это напомнило мне о том дне, когда отец нарисовал ужасную картинку на салфетке в отеле «Плаза»…
– Господи, о чем таком ты толкуешь? – недоуменно восклицает Куинси.
Лето шестьдесят третьего года выдалось для меня относительно удачным. Я уговорила родителей разрешить мне отправиться в лагерь Чиппенуа, неподалеку от Бангора, что в штате Мэн. Первый раз в жизни мне удалось провести июль и август вне загородного дома Саммерсов на Лонг-Айленде.
Я сидела, скрестив ноги, на полу моей спальни в квартире на Пятой авеню, а Джонези заканчивала пришивать меточки с моей фамилией на те вещи, которые я собиралась взять в лагерь. Держа во рту длинную белую нитку, она подавала мне тщательно сложенные юбки и шорты, которые нужно было укладывать в большой дорожный баул, стоявший на полу у окна. Джонези была озабочена лишь моими сборами, поскольку Клара в лагерь не ехала. Она устроилась на работу в больницу Леннокс Хилл в качестве добровольной помощницы. В белом переднике с красным крестом она должна была разносить по палатам газеты и журналы, чтобы пациенты могли скоротать время, которое им было отпущено, чтобы выздороветь или помереть.
Родительница распрощалась с нами еще несколько дней назад. Она якобы отправилась навестить дедушку и бабушку в Милуоки. Нам ДОВОЛЬНО туманно объяснили, что они поедут в отдаленный санаторий на берегу озера где-то в северном Висконсине, где будут около месяца жить на природе, в какой-то деревянной избушке. Представить себе, что родительница будет действительно жить в этой избушке целый месяц, было для нас с Кларой так же трудно, как поверить объяснениям родителя, когда тот оправдывался, почему в очередной раз не появился дома к ужину.
– Я должен работать как вол, чтобы вы обе могли посещать прекрасную частную школу, учиться в колледже, ездить в лагерь. Вот почему мне придется возвращаться домой за полночь.
Взглянув на часы, я с ужасом увидела, что уже почти полшестого. В шесть я должна была явиться пред родителем, чтобы вместе поужинать в отеле «Плаза».
– Мне пора бежать, Джонези, – сказала я. – Или я опоздаю.
Она кивнула и кряхтя поднялась, упираясь натруженной ладонью в свое толстое колено.
– Поспеши, Мэгги. Чтобы он остался тобой доволен.
Неподалеку от «Плаза» перед фонтаном стояло несколько бородатых мужчин и длинноволосых женщин, которые распевали что-то народное. На мне были белая плиссированная юбка, блузка в сине-белые цветочки и туфельки на низких каблуках. Для предстоящего ужина мой наряд был, пожалуй, слишком убог.
По ступенькам, покрытым зеленым ковром, я поднялась в фойе. Здесь было несколько киосков, в которых сверкали бриллианты и прочие шикарные вещи. Поднявшись еще по одной лестнице, я оказалась в полинезийском ресторане.
Симпатичная женщина в сари приветствовала меня и провела прямо к столику родителя, который, завидев меня издалека, галантно привстал и уселся на свое место только, когда села я. Потом он заказал безалкогольный фруктовый пунш – для меня и еще порцию водки – для себя.
– Как ты, Мэгги? – скованно поинтересовался он.
– Прекрасно, папа. Спасибо, – ответила я.
– Собралась в лагерь? – механически продолжал он.
– Почти, папа, – настороженно сказала я.
– Вот и чудесно, – пробормотал он.
– Зачем ты позвал меня сюда, папа? – с глупой прямолинейностью поинтересовалась я, и наш разговор совсем расклеился.
Мы оба молчали, и каждый сконцентрировался на своем напитке. Мы оба делали вид, что никакой непростительной бестактности с моей стороны не случилось. Между тем, как только я оторвалась от соломинки, через которую потягивала искусственный кокосовый сиропчик, родитель взял из-под моего бокала салфетку и, вытащив из внутреннего кармана авторучку, принялся что-то на ней рисовать. На салфетке появилась чья-то прискорбная физиономия. Под глазами ужасные синяки, а само лицо от подбородка до лба забинтовано и залеплено пластырем. Когда рисунок был готов, с салфетки таращился человек, который, должно быть, попал в какую-то аварию и теперь был весь в бинтах.
– Вот так выглядит сейчас твоя мать, – сказал родитель, пододвигая салфетку ко мне.
Несколько секунд я молчала, смутившись под его пристальным взглядом, а потом наконец вымолвила.
– Что с ней случилось?
Он, однако, не спешил отвечать. Сделав большой глоток из своего стакана, он слегка запрокинул голову и совершенно спокойно наблюдал, как по моим щекам медленно катятся слезы.
– Что случилось с мамой? – повторила я, стараясь не плакать.
– Твоя мама не ездила в Милуоки, – проговорил он.
В движении его губ промелькнуло удовлетворенное выражение.
– Она легла в больницу, чтобы прооперировать нос. После ужина ты увидишься с ней. И постарайся не плакать. От этого ей будет еще хуже.
Хотя из моей груди вырвался вздох облегчения оттого, что с родительницей не произошло чего-нибудь худшего, я не очень-то поняла, зачем ей понадобилось оперировать свой нос. Вполне хороший нос, который мне очень даже нравился.
– Когда она была беременна Кларой, – объяснил родитель, – то ударилась о стену. С годами косточка искривилась, и мать стала ужасно храпеть по ночам. Так ужасно, что я совсем перестал спать… Вот она и решила как-то это исправить…
Мне тогда не пришло в голову, что объяснять решение матери сделать пластическую операцию тем, что родителю мешает спать ее храп, так же нелепо, как если бы он решил отрезать себе ухо, чтобы мать могла дышать.
– А Клара знает? – пробормотала я.
– Знает. Перед тем как приехать сюда, я виделся с ней в палате у мамы в больнице Леннокс Хилл.
Теперь, задним числом, я жалею, что не сохранила ту салфетку, на которой было изображено ужасное искалеченное лицо. Мне нужно было сунуть ее в карман, чтобы впоследствии я могла предъявить ее в качестве доказательства этой невероятной истории.
– Обратите внимание на эту салфеточку, – могла бы сказать я. – Вот почему Мэгги Саммерс – такая трудная в общении особа. Все из-за того, что у нее были проблемы с отцом. Посмотрите на салфеточку. Если Мэгги Саммерс не питает к вам никакой любви, то в том нет ее вины…
Я почти ничего не ела за ужином в тот вечер. Лишь слегка поковыряла вилкой в тарелке. Отец покончил наконец со своим блюдом и заказал десерт и кофе. Заплатив по счету, он неловко двинулся из ресторана, а я потащилась за ним. Поймав такси, мы в молчании прибыли в больницу.