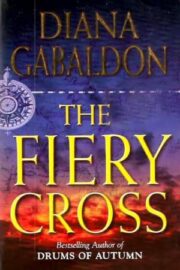Я скинула ноги с кровати и встала, чувствуя головокружение и тяжесть в теле. Мои волосы намокли, шея была скользкой, и струйки пота стекали между грудей.
Джейми спал, повернувшись ко мне спиной; я могла видеть изгиб его плеча и волну темных волос на подушке. Он немного пошевелился и что-то пробормотал, но потом снова задышал ровно и регулярно. Мне нужен был воздух, но я не хотела будить его. Отодвинув марлевую сетку, я потихоньку вышла в дверь и направилась в маленькую комнатку напротив.
Здесь было большое окно, еще не застекленное, но закрытое деревянными ставнями, сквозь планки которого проникал ветерок, лаская мои голые ноги. Жаждая прохлады, я скинула влажную рубашку и облегченно вздохнула, когда холодный воздух скользнул вверх по бедрам к груди.
Однако мне все еще было жарко; горячие волны накатывали на меня с каждым биением сердца. Я, повозившись в темноте, отперла и распахнула ставни, и ночной воздух обдал меня свежестью.
Отсюда над деревьями, подступающими к дому, склон хребта виднелся почти до самой реки, выглядевшей слабой темной линией. Ветер шевелил ветви деревьев, донося до меня благословенную прохладу и острый запах зеленых листьев и живицы. Я закрыла глаза и постояла минуты две или три. Жар исчез, как затушенный уголь, оставив меня промокшей, но умиротворенной.
Однако мне не хотелось возвращаться в постель; мои волосы были влажными, и простыни, на которых я спала, вероятно, были липкими от пота. Я перегнулась через подоконник, ощущая приятную щекотку волос на моей обнаженной коже. Мирный шелест листвы прервал высокий плач ребенка, и я взглянула в сторону хижины.
Она располагалась в ста ярдах от дома, и ветер дул в мою сторону, поэтому я услышала его. Потом ветер поменял направление, и плач затерялся в шуме листвы. Однако ветер вскоре стих, и вопли стали слышны громче и пронзительнее.
Заскрипев, открылась дверь хижины, и оттуда кто-то вышел. Внутри не горели ни лампа, ни свеча, и я увидела лишь темный высокий силуэт на фоне тусклого мерцания очага. У фигуры были длинные волосы. И Брианна, и Рождер спали с распущенными волосами и без ночных головных уборов. Было приятно представить глянцевито мерцающие кудри Роджера и огненные пряди Брианны, спутавшиеся на подушке.
Плач не затихал. Беспокойный и сердитый, но не отчаянный. Нет, не боли в животе. Плохой сон? Я некоторое время наблюдала за фигурой, ожидая, что этот кто-то принесет ребенка ко мне, и на всякий случай потянулась за своей рубашкой. Но высокая фигура исчезла в еловой роще, и вопли стали удаляться. Значит, не жар.
Я осознала, что мои груди набухли и покалывали в ответ на детский плач, и немного грустно улыбнулась. Странно, что инстинкт материнства так силен и длится так долго. Настанет ли день, когда во мне ничто не шевельнется при звуках плачущего ребенка, при запахе возбужденного мужчины, при ощущении распущенных волос на оголенной коже моей спины? И если я доживу до этого дня, буду ли я сожалеть о потере или, наоборот, почувствую мир и успокоение и стану смотреть на жизнь взглядом, не замутненным животными инстинктами?
Великолепие плоти — не единственный дар в этом мире; врач видит слишком много бедствий, которым она подвергается, и все же… Стоя в потоке прохладного воздуха позднего лета, чувствуя гладкие доски пола под моими босыми ногами и прикосновение ветра к моей обнаженной коже, я не могла желать стать чистым духом. Еще нет.
Вопли ребенка становился все громче, и я услышала низкий голос взрослого, пытающегося успокоить его. Роджер.
Я взяла свои груди в ладони, с удовольствием ощущая их мягкую тяжесть. Я помню, какие они были маленькие и твердые в юности, такие чувствительные, что прикосновение мальчишеской руки заставляло слабнуть мои колени. Прикосновение моей руки действовало так же. Сейчас ощущения были другие, и все же удивительно похожие.
Это не было открытием чего-то нового и неожиданного, а скорее явилось признанием уже существующего, как тень, которую вы отбрасываете на стену и не подозреваете о ней, пока не повернетесь к ней лицом.
Она была там все время, и если я отвернусь, тень не исчезнет. Она неизменно привязана ко мне, хочу я замечать ее или нет, нематериальная, неосязаемая, но всегда существующая — маленькая ли, съежившаяся у моих ног в свете других более важных обязанностей, или вырастающая до гигантских размеров в жаре внезапной страсти.
Демон ли, овладевший мной, или ангел-хранитель? Или только животное наследие, постоянное напоминание неизбежности тела и его потребностей?
Раздался еще один шум, смешиваясь с пронзительным хныканьем. «Кашель», — подумала я, но звук не прекращался, и ритм звучал не так. Я высунула голову в окно осторожно, как улитка после грозы, и в хриплом бульканье разобрала несколько слов.
— «…где был стан… и до-о-чурка Клементайн», [262]— пел Роджер.
Я почувствовала, как слезы наполнили мои глаза, и быстро втянула голову, чтобы меня не заметили. В звуках не было никакого мотива, словно ветер гудел в горле пустой бутылки — и все же это была музыка. Песня звучала рвано и задушено, однако вопли Джемми сменились всхлипыванием, как будто он пытался разобрать слова, которые так мучительно выталкивало травмированное горло его отца.
— «Утки шли, алел восток…» — он задыхался после каждой прошептанной фразы; голос звучал так, как будто рвали полотно. Я сжала кулаки, словно одной силой желания могла помочь ему выводить слова.
— «И не спас я Клементайн».
Порыв ветра, пронесся над вершинами деревьев, и следующая строчка песни потерялась в шелесте ветвей. Я прислушивалась минуту или две, но не услышала больше ни слова.
Потом я увидела Джейми возле двери.
Он вошел бесшумно, но я почувствовала его в тот же момент через тепло, через изменение плотности прохладного воздуха в комнате.
— Ты в порядке, сассенах? — мягко спросил он от дверного проема.
— Да, все хорошо, — ответила я шепотом, чтобы не разбудить Лиззи и ее отца, которые спали в задней комнате. — Мне просто захотелось подышать свежим воздухом. Я не хотела тебя будить.
Он подошел ближе, высокий обнаженный призрак, пахнущий теплой постелью.
— Я всегда просыпаюсь, когда ты встаешь, сассенах. Я не могу спать, когда тебя нет рядом, — он коротко коснулся моего лба. — Я подумал, может быть у тебя жар, постель была мокрой с твоей стороны. Ты уверена, что чувствуешь себя хорошо?
— Мне было жарко, я не могла спать. Но я в порядке. А ты? — я коснулась его щеки; кожа была теплой от сна.
Он подошел ко мне и встал рядом, глядя в окно на летнюю ночь. Светила полная луна; беспокоились птицы; я слышала, как где-то поблизости щебетала поздняя птичка, а в отдалении раздавался писк охотящегося сычика.
— Ты помнишь Лоренса Стерна? — спросил Джейми, которому ночные звуки, по-видимому, напомнили о натуралисте.
— Сомневаюсь, что раз встретившись с ним, кто-нибудь сможет его забыть, — сухо ответила я. — Мешок с высушенными пауками оставляет незабываемое впечатление. Не говоря уже о запахе.
Стерн обладал своеобразным запахом, состоящим в равных частях из ароматов его собственного тела, дорогого одеколона, который он обожал, и который по пронзительности мог конкурировать — хотя и не побеждать — с такими консервантами, как камфара и спирт, и слабого запаха гниющих образцов фауны, собранных им.
Джейми тихо хихикнул.
— Это правда. Он воняет хуже тебя.
— Я не воняю, — с негодованием произнесла я.
— Ммфм, — он взял мою руку и поднес ее к носу, изящно принюхиваясь. — Лук, — сказал он, — и чеснок. Что-то острое… перец горошком. И гвоздика. Беличья кровь и мясной бульон, — его язык быстро, словно змеиный, лизнул суставы моих пальцев. — Картофельный крахмал и что-то древесное. Поганки.
— Не честно, — сказала я, пытаясь вырвать мою руку. — Ты отлично знаешь, что у нас было на обед. И это были не поганки, а древесные грибы.
— Мм? — он перевернул мою руку и понюхал сначала ладонь, потом запястье и предплечье. — Уксус и укроп, ты делала маринад для огурцов, да? Хорошо, мне они нравятся. Мм, о, и кислое молоко вот здесь на руке. Ты плеснула пахтой, когда сбивала масло, или сливками, которые снимала с молока?
— Догадайся, если ты так хорошо разбираешься в запахах.