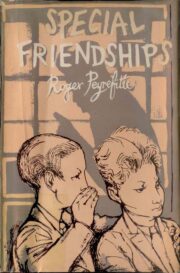Каким же должно быть христианское имя Отца, чтобы предлог получился правдоподобным? Жорж сверился с карманным календарём, и его мысли обратились к Отцу Лозону, озвучивающему свои приказы накануне каникул. Завтрашний день, субботу, лучше было исключить — это было слишком близко; воскресенье было днём рождения Жоржа. В следующий четверг они уезжали, да и в любом случае это был праздник Святой Маргариты, который вряд ли бы подошёл.
С понедельника, 17 июля, и по среду, 19 июля, у него был выбор между святыми Алексием [Алексий, человек Божий, конец IV века — начало V века, христианский святой (в лике преподобных), аскет], Камиллом и Винсентом. Жорж выбрал Алексия: имя было уместно тем, что напоминало имя Александра, эклогу Вергилия, и их последний разговор, состоявшийся в хижине. Действительно, сладкая месть: окрестить ужасного Лозона Алексием!
Жорж спустился вниз и обнаружил своего отца за чтением газет. В них ещё ничего не было о вручении призов в Сен—Клоде, хотя рассказ об этом событии, как правило, всегда появлялся в местной католической газете. На столе лежала телеграмма: ответ из отеля. Номера для них были зарезервированы; они были удачливы.
Жорж воспользовался возможностью и изложил свою просьбу: его рассказ о дне Святого Алексия был принят очень хорошо. Он уедет в понедельник утром и вернётся вечером. Жорж поцеловал отца с такой же неумеренной нежностью, как в день, когда тот позволил Жоржу подержать в руках золотой статир Александра. Жорж был в восторге от мысли о своём путешествии в С. Он встал перед пианино и попытался одним пальцем наиграть мелодию «Blonde Rêveuse».
Он вышел в сад, съехав по полированному камню перил террасы. Он уже давно не делал ничего подобного; с тех пор, как вышел из детского возраста — возраста тех мальчиков, которых он видел вчера забавлявшимися со своими приятелями. Но теперь у него не было нужды в компаньонах. Тот, кто отсутствовал, оживлял собой сад. Когда Жорж в последний раз вызывал его образ с этого самого места в одно прекрасное утро пасхальных каникул, оранжерея была наполнена сладким душистым ароматом глициний и гиацинтов, а у него в кармане лежало письмо от друга. Письмо, глицинии и гиацинты исчезли, но в саду были и другие цветы — цветы, с которыми можно было поговорить об Александре.
Лилии в симметричной клумбе подарили ему новый символ. Это были цветы, которые Виргилий преподнёс Алексису:
Мальчик прекрасный, приди! Несут корзинами нимфы
Ворохи лилий тебе.
Жорж выбрал одну из лилий. Он поместил её среди роз в своей комнате. Безупречная лилия должна была заменить собой красный гладиолус, который бросил ему Александр в тот день на реке, и который завершил свою жизнь в школьной церкви. Таким образом, отменялись цвета букета Пресвятой Богородицы.
Жорж объявил, что не будет выходить в этот день. Ему нужно написать большое количество писем. Он должен известить своих друзей в С., что его следует ожидать в понедельник — например, Марка де Блажана, который будет рад увидеться с ним; и Мориса Мотье, сына врача. Он тут же пожалел, что огласил имя Мотье перед своими родителями — эта фамилия в кругу его семьи должно навсегда остаться его секретом, даже если она была связана с христианским именем, отличным от имени, составлявшем тайну. Дабы избежать каких–либо вопросов по этому поводу, и заглушить эхо этого имени в их сознании, он немедленно начал говорить о Люсьене, которому он также собирался сегодня написать. Он расскажет ему о телеграмме из отеля, и в какое время их следует ожидать в четверг.
Жорж заперся в своей комнате — он поступал так, когда хотел побыть наедине со своими мыслями об Александре. Он и в самом деле предполагал написать письмо, но только одно — к нему. Он всё ещё не решил: отправить ли письмо Морису завтра, или подождать до понедельника, следуя плану, разработанному им что утром. Ему казалось жестоким оставлять своего друга в такой неопределенности еще несколько дней; но он не забывал, что такой поступок диктовался необходимостью. Это была судьба — у него не было выбора.
Он прислонил две записки друга к вазе с цветами на своём столе, а рядом с ними положил прядь волос мальчика. Он придвинул кресло, но потом почувствовал, что ему в нём будет слишком комфортно, вспомнив при этом моральные тонкости, связанные с распределением мягких кресел и простых стульев в комнате отца Лозона. Для такого серьезного письма, которое он собирался написать, требовался аскетизм простого стула. Он закрыл окна, не желая, чтобы его тревожил шум с улицы. Нескольких минут он сидел совершенно неподвижно, закрыв глаза и собираясь с мыслями, вызывая видение лица, которое он в будущем собирался ассоциировать с ароматом лилий и роз, как когда–то связывал с ароматом сирени. Он больше не верил, что его разрыв с Александром будет длительным.
Отчаяние, переполнявшее его после первого и последнего вердикта Отца Лозона, ныне казалось ему излишним. Он вновь обратился к размышлениям Люсьена: все это было мимолетными испытаниями; дружба между ним и Александром никогда не погибнет.
Он начал писать:
Тебе, кого люблю
Я хочу, чтобы ты знал, как я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты был абсолютно уверен, что именно это чувство вдохновляет все, что я делаю. Моим единственным гидом была моя любовь, которой помогал мой разум. Я отдал все твои записки, или почти все. Я предал тебя и, таким образом, отказался от тебя, но это было сделано ради нашего спасения в этом мире, если не в следующем, как ты сам говорил. Ты должен верить, что мне потребовалось большое мужество, чтобы принять такое решение и тем самым помешать тебе прийти за мной, после чего я должен был бы сдержать свое слово и уйти с тобой.
Я с энтузиазмом приветствовал твой план, но потом, поразмыслив, передумал; и ты должен позволить мне сказать, что я обязан себе, что не дал тебе это совершить. Мы не вправе вовлекать себя в такой безумный план, каким бы великолепным он не казался. К этому я должен добавить, что у нас ничего бы не получилось. Успех нашего бегства стал сомнительным с того момента как перестал быть секретом; и даже если бы нам удалось сбежать, как долго бы это продолжалось, и каковы были бы последствия? Мы имели полное право мечтать об этом; но нам не следует пытаться совершить это. Мы, в нашем возрасте, как ты сам знаешь, зависимы, и наше подчинение должно сильно изменить обстановку.
Каникулы, конечно же, для нас будут потеряны, но будущее остается нетронутым. Так что я, не краснея, могу подтвердить то, что я сказал в своей последней записке, сохранив твою последнюю. Верь в меня, как я в тебя, и будь терпелив. Наша жертва не станет напрасной. Я уповаю на судьбу. Победа нашего врага (врагов) только видима, но временна. Мы настоящие победители, так как мы ничего не потеряли из нашей истинной империи, и не перестали в ней царствовать. Придет день, когда никто не станет силой вырывать её у нас, ибо в этот день мы воссоединимся, и ничто не разлучить нас снова. Ты не был другом весь мой год в колледже, но ты будешь другом всех моих последующих лет. И все, чем я буду обладать, станет твоим, я буду владеть этим только ради тебя.
Ради этого я не стану делать большего — только верну тебе твоё; я не первый в своих владениях, и разве не ты сделал меня таким, как я? Ты воссоздал всю мою сущность лучше, чем это сделали мои отец и мать. Твой образ наблюдает за моими занятиями. Все красоты, которые я нашел у поэтов или в церковных молитвах; все, что мне понравилось у греков и римлян, я посвящаю тебе, всё это ради тебя, потому что я полюбил это только из–за тебя. Минуты, когда я мог видеть и слышать тебя, стали для меня вечностью, наполнив колледж ароматом ладана, который сгорал только для меня; крупинками золота, которые обогащали меня всякий раз, когда я видел твою улыбку. Церковные службы в Сен—Клоде были гимнами нашему счастью. Мы накопили столько радости, что её хватит, чтобы наполнить все книги и чары на нескольких веков. И если, несмотря на это, мы сочтём утомительным время нашей разлуки, давай будем хранить уверенность, что мы в ближайшее время и до конца, будем по–прежнему вместе.
Я пишу это письмо в пятницу, 14 июля, а в понедельник я приеду в С., чтобы приблизится к тебе. Мысль об этой поездки опьяняет меня. Я увижу твою улицу, твой дом. Я буду наблюдать, как ты выходишь. У меня такое чувство, что я как будто до сих пор в Сен—Клоде, наблюдаю, как ты появляешься у дверей оранжереи. Но я должен остерегаться другого человека — человека, который является причиной всех наших бед — его слово не станет последним.