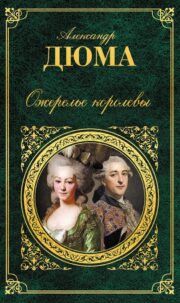Графиня очутилась в коридоре. Там ждали восемь стрелков из тех, что несли службу в суде. Чего они ждали? Об этом задумалась Жанна, когда их увидела. Но дверь привратницкой уже затворилась. Перед стрелками стоял один из простых надзирателей, который по вечерам всегда отводил графиню в камеру.
Этот человек пошел впереди Жанны, словно показывая ей дорогу.
– Я возвращаюсь к себе? – спросила графиня, и, как ни старалась она, чтобы голос ее звучал уверенно, в нем послышалось сомнение.
– Да, сударыня, – отозвался надзиратель.
Жанна ухватилась за железные перила и вслед за тюремщиком стала подниматься по лестнице. Она слышала, как стрелки шушукаются у нее за спиной, однако они не тронулись с места.
Приободрившись, она позволила запереть себя в камеру и даже приветливо поблагодарила надзирателя. Тот удалился.
Едва Жанна оказалась одна и без присмотра в своей темнице, как предалась необузданной радости, которую слишком долго скрывала под маской лицемерного уныния, пока оставалась в привратницкой. Камера в тюрьме Консьержери была ее клеткой, а сама она была словно дикий зверь, которого люди ненадолго посадили на цепь, но по прихоти всевышнего скоро перед хищником вновь распахнется вольный мир.
Когда приходит ночь, когда ни единый звук не напоминает пленному зверю о его стражах, когда его изощренное обоняние не чует поблизости ничьих запахов, это неукротимое существо начинает метаться по своему логову, по своей клетке. Оно расправляет гибкие члены, готовясь к грядущей свободе; оно испускает рычание и прыжками выражает порывы необузданного восторга, недоступного человеческому оку.
Так было и с Жанной. Внезапно она услышала шаги в коридоре, услышала, как бряцает связка ключей в руках у тюремщика, как поворачивается массивный замок.
«Что им от меня нужно?» – подумала она и выпрямилась, внимательная и безмолвная.
Вошел надзиратель.
– В чем дело, Жан? – спросила графиня мелодичным и равнодушным голосом.
– Благоволите следовать за мной, сударыня, – произнес он.
– Куда это?
– Вниз, сударыня.
– Вниз? Куда?
– В тюремную канцелярию.
– С какой стати?
– Сударыня…
Жанна подошла к тюремщику, который нерешительно смотрел на нее, и заметила в конце коридора давешних стрелков, которых уже повстречала внизу.
– Да скажите вы мне наконец, – в волнении воскликнула она, – зачем я должна идти в канцелярию?
– Сударыня, с вами хочет побеседовать ваш защитник, господин Дойо.
– В канцелярии? Почему не здесь? Его много раз сюда пускали.
– Дело в том, сударыня, что господин Дойо получил из Версаля бумаги, с которыми желает вас ознакомить.
Жанна не заметила, как нелогичен такой ответ. Ее поразило упоминание о бумагах из Версаля: значит, нет сомнений, что адвокат лично привез ей письма из дворца.
«Неужели после вынесения приговора королева ходатайствовала за меня перед королем? Неужели…»
Но к чему гадать? Предположения имели бы смысл, если бы у нее впереди было время, но теперь еще минута-другая, и она узнает разгадку.
Между тем тюремщик торопил ее, он потряхивал ключами, намекая, что он, мол, все равно ничего не знает, а просто следует злополучной инструкции.
– Подождите минуту, – сказала Жанна, – видите, я уже разделась и хотела немного отдохнуть: последние дни были так утомительны!
– Я-то подожду, но прошу вас, помните, что господин Дойо спешит.
Жанна затворила дверь, надела платье посвежее, набросила на плечи накидку и проворно причесалась. На сборы у нее ушло не более пяти минут. Сердце подсказывало ей, что г-н Дойо доставил ей приказ немедленно покинуть тюрьму и все готово для того, чтобы она могла незаметным и необременительным образом уехать из Франции. Да, королева, должно быть, позаботилась, чтобы ее противницу устранили как можно скорее. Теперь, когда уже вынесен приговор, Мария Антуанетта постарается не раздражать Жанну; если даже пленная пантера внушает страх, то насколько же опаснее она, когда ее выпустят на волю? Убаюкивая себя этими блаженными мыслями, Жанна не пошла, а полетела следом за тюремщиком, который провел ее по узенькой лестнице, по которой она уже спускалась в залу суда. Но тюремщик, не доходя до залы суда и не беря налево, где находилась канцелярия, повернул направо, к низкой двери.
– Куда же вы? – спросила Жанна. – Канцелярия не здесь.
– Идемте, идемте, сударыня, – медовым голосом отвечал надзиратель, – господин Дойо ждет вас здесь.
Он вошел первый и увлек за собой пленницу; она услышала, как за спиной у нее с наружной стороны массивной двери с лязганьем закрылся засов.
Жанна удивилась, но, никого не видя в темноте, больше уже не посмела обратиться к тюремщику с вопросом.
Она шагнула вперед и остановилась. В помещение проникал голубоватый свет: она словно очутилась внутри склепа.
Свет сочился сверху сквозь старинную решетку, затянутую паутиной и покрытую вековым слоем пыли; поэтому в камеру пробивалось лишь несколько бледных лучей, отбрасывавших на стены только слабые блики.
Жанну обдало холодом; от стен темницы на нес повеяло сыростью; в сверкающих глазах тюремщика ей почудилась страшная угроза.
Меж тем она не видела никого, кроме этого человека; только он да сама Жанна находились в этих четырех стенах, позеленевших от влаги, сочившейся из оконца, и покрытых плесенью, на которую никогда не падал солнечный луч.
– Сударь, – сказала наконец Жанна, преодолевая дрожь ужаса, – почему мы находимся здесь вдвоем с вами? Где господин Дойо? Вы обещали, что я его увижу.
Надзиратель не ответил. Он отвернулся, словно хотел проверить, надежно ли заперта дверь, в которую они вошли.
Жанна подметила это его движение и не на шутку испугалась. Она подумала, что стала жертвой одного из тех тюремщиков, описанных в страшных романах тогдашней эпохи, которые загораются страстью к своим узницам и в день, когда темница уже должна открыться перед ними, объявляют прекрасным пленницам, что те у них в руках, и предлагают им свою любовь в обмен на свободу.
Жанна была сильна, не боялась неожиданностей, в душе у нее не было места целомудрию. Ее воображение легко справлялось с причудливыми софизмами Кребийона-сына и Луве[154]. Она подошла вплотную к надзирателю, состроила ему глазки и сказала:
– Чего вы от меня хотите, друг мой? Вы собираетесь мне что-то сказать? Для пленницы, которую ожидает близкая свобода, драгоценна каждая минута. По-моему, вы избрали весьма зловещее место, чтобы потолковать со мною наедине.
Человек с ключами не ответил, потому что ничего не понял. Он присел в углу у низкого очага и стал ждать.
– Я еще раз спрашиваю, – произнесла Жанна, – что мы здесь делаем?
Ей стало страшно: вдруг она имеет дело с умалишенным.
– Мы ждем мэтра Дойо, – отвечал надзиратель. Жанна покачала головой.
– Согласитесь, – возразила она, – что если мэтр Дойо и впрямь привез мне бумаги из Версаля, он выбрал неудачное место для встречи со мной. Не может быть, чтобы он заставил меня ждать в этой камере. Дело в чем-то другом.
Едва она вымолвила эти слова, как прямо перед ней отворилась дверь, которую она прежде не замечала.
Это была округленная, похожая на крышку люка дверца, один их тех шедевров, сотворенных из дерева и железа, которые, отворяясь, словно разрывают магический круг, и в таящейся за ними глубине возникают, покорствуя волшебству, живые люди или уголки живой природы.
Так вот, за этой дверцей виднелись ступени, которые вели в какой-то коридор, едва освещенный, но полный свежего воздуха и прохлады; в конце этого коридора Жанна, поднявшись на цыпочки, на одно мимолетное мгновение успела заметить обширное пространство размером с площадь; там толпились мужчины и женщины, у всех блестели глаза.
Но повторяем, видение открылось Жанне не более чем на миг, и она даже не успела осознать увиденное. Гораздо ближе к ней, чем эта площадь, оказались три человека, всходившие на верхнюю ступень лестницы.
За их спинами на нижних ступеньках белели четыре стальных штыка, похожие на зловещие свечи, которым предстояло озарить происходящее.
Но тут круглая дверь захлопнулась. В камеру к Жанне вошли только эти трое.
Удивление графини сменилось тревогой и смятением.
Она отпрянула, стараясь держаться поближе к тюремщику, которого еще недавно боялась, а теперь готова была искать у него защиты от незнакомцев.
Тюремщик вжался в стену, всем своим видом давая понять, что он не хочет и не должен участвовать в происходящем и останется безмолвным свидетелем того, что сейчас начнется.