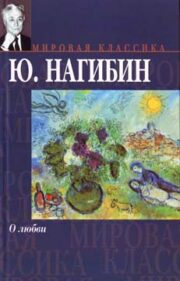— И черт с ней!..
— Ох, не говори так! Нельзя. Плохо будет. Страшно… Нельзя сейчас об этом думать.
Слова о женитьбе вырвались у Климова случайно, да и какой смысл имела женитьба, когда в любой день может кончиться его короткий перекур и так же может распорядиться Марусей трудовой фронт? Но сейчас ему представилось, что от Марусиного согласия зависят и его жизнь, и смерть, и все на свете. Он сказал:
— Часа через два я тут опять буду. Ты мне тогда дашь ответ. — И пошел дальше не оборачиваясь…
Редактора на месте не оказалось. Гущин срочно вызвал его в Будогощь, и он ушел на аэродром, откуда стартовали грозные ночные бомбардировщики У-2. Листовку подписал ответственный секретарь газеты Смолин, недавно эвакуированный из Ленинграда лингвист. «Ужасно неудобно вас гонять, но никого нет под рукой, а самому мне не дойти». И он с грустью посмотрел на свои распухшие ноги…
— Леша, я все думала, думала, и знаешь, чего надумала? — В подступивших сумерках Марусино лицо казалось осунувшимся, в черноту бледным. — Давай так — я к тебе вышла и иду, а как приду, так и стану твоей женой.
— Когда же ты придешь?
— Да как война кончится, или…
— Ну, уж договаривай.
— Если, упаси Бог, ранят тебя сильно, я сразу приду. Только скажи… Ладно?.. И давай больше об этом не говорить, а то плакать хочется…
…Уже в темноте, подходя к бараку, где расположился Седьмой отдел, Климов все думал о странном Марусином согласии-отказе. Почему бы им не связать свои судьбы сейчас, даже если его скоро отошлют и он не вернется назад? Хоть день, да их. Но может, Маруся боится связать себя с ним именно не на смерть, а на жизнь? Может, она не верит ему до конца, боится, что он скоро ее забудет… Он так и не успел додумать все до конца, когда перед ним вновь выросла гора мяса, запихнутая в военную форму.
— Это чья закорючка? — спросил Хохлаков, подозрительно разглядывая подпись Смолина.
— Политрука Смолина.
— Почему не редактора?
— Его срочно вызвал в Будогощь батальонный комиссар Гущин. Смолин — ответственный секретарь редакции, исполняющий обязанности, вернее.
— И. о.! И. о.! — заржал Хохлаков. — Громадная разница! Я не подпишу.
Климов зло засмеялся: он отмахал марафонскую дистанцию только для того, чтобы услышать этот панический вопль самосохранения.
— Да чего вы дрейфите! Сколько таких листовок уже выпустили…
— Не забывайтесь, товарищ лейтенант! — тонким голосом заверещала туша. — Перед вами старший по званию.
Это верно, у него две шпалы, он интендант второго ранга. А где ваше хозяйство, товарищ интендант, где склады, хранящие штабеля дубленых, сладко воняющих полушубков, жилетов на овчине, горы кирзовых сапог, ушанок из поддельного меха, консервы, концентраты, несъедобный комбижир, пачки отсыревшего табака? Спросить его о делах складских? Ох и взовьется этот кашалот!.. Не стоит, еще под арест угодишь, а листовка так и не выйдет.
Спокойно и обстоятельно, может быть, чересчур обстоятельно, почти с издевкой, Климов объяснил Хохлакову положение с листовкой.
— Я бы доставил сюда Смолина, да ведь листовка тогда опоздает.
— Куда еще опоздает? — грубо спросил Хохлаков. — Успеете сбросить…
— Да ведь надо же сразу после боя!
— Какая разница? — пожал жирными плечами Хохлаков. — После или до боя, лишь бы не вместо! — Это была шутка, интендант второго ранга хотел кончить дело миром. Он не решался подписать листовку, ему был ненавистен даже малейший риск, но и ссориться с этим мальчишкой-лейтенантом тоже не улыбалось Хохлакову, как-никак тот был с передовой, а оттуда все возвращаются малость с «приветом». Еще чего выкинет!.. Хохлаков чувствовал глубокую ответственность перед своим огромным, тяжелым и слабым телом, в котором заключалась величайшая драгоценность, венец творения, начало и конец мироздания — его родимая и жалостная суть. Нельзя позволить, чтобы в эту нежную, незащищенную мякоть стреляли. А на войне чуть что — начинают стрелять, свои почти столь же легко, как и чужие. Если б не эта омерзительная привычка, существование на войне было бы вполне сносно. Но за ошибку могут послать туда, где стреляют, могут и на месте шлепнуть. Поэтому не надо ошибаться, а значит, не надо брать на себя никакой ответственности. Но на войне опасен каждый, ибо у каждого на боку висит оружие. И этот молодой псих вполне может схватиться за шпалер. Зря он полез в замы, думал, там спокойнее. Оставаться бы ему рядовым инструктором.
Климов с новым интересом рассматривал сидящего перед ним человека. Оказывается, заместитель начальника службы контрпропаганды ни в грош не ставил свой род войск. «До боя, после боя — какая разница?» Ему, Климову, простительнее было бы так думать, слишком глубоко въелось в него убеждение: «Хороший фриц — это мертвый фриц». Но сидящий перед ним человек не имел права так думать. Его для того и держат здесь, вдали от пуль и снарядов, чтобы он «делал» не мертвых, а живых фрицев. Пусть и ничтожен шанс, что грохот проснувшихся после долгой спячки орудий в сочетании с «идеологическим» нажимом заставит каких-то фрицев задуматься о возможности выйти живым из бойни, — надо верить в такой шанс. Если хоть один фриц добровольно или полудобровольно сделает «хенде хох» — это уже выигрыш. А этот вонючий кашалот, эта сволочь бормочет: «Какая разница».
— Разрешите обратиться к начальнику Политуправления?
— Да вы с ума сошли! — замахал руками Хохлаков. — Тревожить Шаронова из-за такой ерунды?
— Ерунды?.. Тогда подпишите эту ерунду.
— Кругом! — неуверенно сказал Хохлаков.
После Климов с удивлением думал: что его так заклинило? Сколько раз на войне он без звука подчинялся распоряжениям, столь же безответственным, но чреватым худшими последствиями. Там игра шла впрямую на человеческие жизни. Но он говорил: «Есть!» — и делал как приказано. И прошло какое-то время, прежде чем он понял, что в этот вечер он впервые почувствовал свою ответственность.
— Я иду к дивизионному комиссару и скажу, что вы срываете оперативное задание.
— Он в это время отдыхает, — беспомощно сказал Хохлаков.
— Разбужу!
Хохлаков опустил голову: то, чего он смертельно боялся, подступило вплотную в образе этого настырного поганца. Шаронов тоже чокнутый, он может загнать на передовую. За что?.. За что?.. Он не сделал ничего плохого!.. Эту паршивую, никому не нужную листовку не подмахнул? Но ведь никто не предупредил его о ней. И все же поставить подпись на клочке серой волокнистой бумаги с несложным немецким текстом было для него так же невозможно, как подписать собственный приговор. Он с юности усвоил от родителей золотое правило: никогда ничего не подписывать.
— Идите… — сказал он упавшим голосом.
Но Климову не пришлось будить начальника Политуправления. Нежданная помощь пришла в лице давешнего сострадательного инструктора. Растерзанный, неопрятный, осыпанный пеплом человек с безумным и добрым лицом случайно слышал конец их разговора и накинулся на Хохлакова:
— Ты с ума сошел? Большой дивизионный за такое голову снимет. Дайте сюда листовку, я сам подпишу. А тебя, Хохлаков, здесь не было, понятно? Ты в сортире сидел.
Он размашисто подмахнул листовку.
Было очень темно, тучи заволокли небо, но рельсы светились в темноте, ловя какое-то невидимое глазу небесное сияние, и Климов, хоть и спотыкался, все же довольно быстро одолевал финишную прямую. Просветлели новенькие шпалы, уложенные Марусей и ее товарками. Значит, это на самом деле существует: он, и Маруся, и эти девушки, и шпалы, и война, где могут убить?… Климов не заметил тогда, что изменил привычной формуле, вместо положенного «меня убьют» сказал: «могут убить», — он уже оставлял себе какой-то шанс…
Тонкий, но резкий, пронзительный звук за его спиной, напоминавший свист снаряда, заморозил лопатки. Миг он пребывал в неподвижности, затем прыгнул под откос. Со стороны Неболчей, со стороны фронта, надвигался загадочный синий свет, подобный таинственному свечению целебной лампы, вправленной в сгусток тьмы. Климов засмеялся — это был поезд. Тишина и пустынность протянувшихся через весь его день рельсов заставили забыть, что перед ним — действующая железная дорога. Поезд проплыл — громадный, медленный, темный, словно мертвый внутри. Это был пассажирский поезд, и самое невероятное — он шел в Москву…
В поезде-типографии Климова ждали: и.о. ответственного секретаря Смолин, наборщик и печатники. В пульмане, где помещалась ротационная машина, горел свет. Никто не сомневался, что он выполнит поручение.