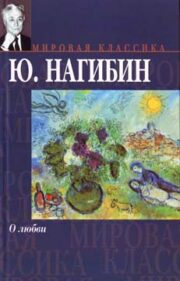— Вы, наверное, здорово устали? — сказал Смолин, растирая свои опухшие ноги. — Сколько раз взад-вперед мотались. Оставайтесь ночевать, мы соорудим вам ложе за кассами.
— Спасибо, — засмеялся Климов. — Я все-таки пойду домой. У кого найдется фонарик?
Он едва дотащился до дому. Последние два-три километра дались труднее тех многих, пройденных за день.
— Кто там? — раздался голос Марусиной матери, когда он с великими предосторожностями и почти бесшумно проник из сеней в кухню.
— Да я… — прошептал он. — Спите, спите…
— Ты, Леша?.. — Голос ее сник.
Она часто не спала по ночам и упорно ждала сына, ей почему-то казалось, что он придет обязательно ночью, когда все спят, и никто его не встретит…
«Перекур» кончился раньше, нежели ожидал Климов. Его послали в командировку в 59-ю армию, которая после форсирования Волхова топталась на правом берегу реки, то занимая, то уступая какие-то условные высоты и мелкие населенные пункты. Среди прочих дел ему надлежало организовать работу радиопередвижки, только что полученной фронтом из Москвы. Текст передачи, занимавший пятнадцать машинописных страниц, ему вручил исполненный авторского волнения интендант второго ранга Хохлаков, и Климов, дисциплинированный воин, выдал немцам передачу от первого до последнего слова. Это заняло полчаса, после чего побитая осколками машина надолго вышла из строя. Оказалось, что в здешних условиях — безлесная равнина — передвижка могла работать безнаказанно от силы десять минут, но Климову это было невдомек. Поскольку Климов не был введен в командование машиной, он не являлся материально ответственным лицом и авторское тщеславие Хохлакова ударило по карману. Климова тут же отстранили от обязанностей радиодиктора, ему остались совсем скучные дела: разбор немецкой почты, наставление инструкторов политотдела да обучение бойцов, желающих подразнить фрицев, несложной брани в адрес Гитлера. Армейские политработники добродушно посмеивались над Климовым за то, что его прислали на спящий участок фронта, когда в самом непродолжительном времени, возле Ладоги, произойдет решительное сражение. Это была всеобщая уверенность, и Климов знал, что в таких случаях ошибка исключается. Писарь и ездовой узнают о готовящемся наступлении почти одновременно с командованием фронта. И, занимаясь здешними непервостатейными делами, он думал, что пора возвращаться на свою войну. Если и впрямь идет подготовка к прорыву блокады, строевого командира не станут удерживать во втором эшелоне. Он любил Марусю и теперь не хотел смерти, его в холодный пот бросало, когда он думал о смерти. Он представить себе не мог, что еще недавно без страха шел в бой. И при всем том он не променял бы нынешний страх смерти на былое бесстрашие…
…А в Марусин дом нагрянула беда, получили похоронку на ее брата Борьку. Он погиб близ озера Ильмень. Похоронная пришла с неделю назад, когда Климов находился в командировке. В доме уже привыкли к мысли, что Борьки нет, и все же Марусина мать будто специально поджидала Климова, чтобы насвежо пережить свою потерю. Почему-то ее особенно угнетало, что во время атаки Борькины товарищи видели, как он снял с головы пилотку, и в ней остались все его отросшие на передовой волосы. Страх и муки сына, испытанные им перед гибелью, терзали ее сильнее, чем сама его смерть, которой она, быть может, еще не постигла до конца. Климов целовал ее седую голову, и внутри у него стучало: «Пора… пора… пора».
В тот же день у него произошел разговор с редактором. Неожиданно для Климова тот не стал его удерживать.
И Маруся оставляла дом. Их ремонтную бригаду перевели на казарменное положение, теперь они будут тоже чем-то вроде воинской части, им даже обмундирование обещали выдать. В Марусе появилось что-то новое, какая-то отчуждающая серьезность, и Климову подумалось, что она заранее освобождается от него, не желая лишнего горя. Их последний вечер был похож на все другие вечера — в избу набилось много народу, Маруся пела «Средь полей широких», а ленинградская женщина — своего обычного «Турка», «седая» Ася и почтальонша плясали, и с каменным лицом восседал на лавке старший лейтенант Федя, надраенный, как палуба военного корабля на параде. И хотя Климов никому не говорил, что уезжает, откуда-то это стало известно.
— Что же ты, мёдочка, покидаешь нас? — вздыхала почтальонша. А ленинградская женщина сказала:
— После войны мы должны встретиться у меня в Ленинграде. Кирпичная, семнадцать, квартира тридцать четыре. У нас прекрасный инструмент. Мы будем петь, танцевать и пить вино. Очень сухое шампанское. Я приглашаю всех присутствующих. У вас не найдется табачку, лейтенант?
Гости ушли, по обыкновению, сразу и все вместе. Климова не переставала удивлять эта местная особенность: никто заранее не сговаривался, но будто иссякал завод, и люди торопились разойтись. И, как всегда в эти последние минуты, у старшего лейтенанта Феди был такой вид, словно он вот-вот заговорит, объявит о каком-то важном решении, откроет некую тайну, — он улыбался, вздыхал, но рождения слова так и не происходило, и, козырнув, щелкнув ярко начищенными сапогами, он выходил, прихрамывая. А у ленинградской женщины делалось потерянное и жалкое лицо: она боялась темноты, одиночества долгой ночи в чужом доме, и почтальонша обнимала ее за плечи: «Пойдем, мёдочка, людям спать пора», и уводила ее, трепещущую, чуть не плачущую. Но, как ни быстро расходились гости, художник со своей Нюсенькой успевали исчезнуть еще раньше. Они удивительно быстро, легко и дружно засыпали. Климов еще ни разу не застал их бодрствующими. Спали они и сейчас, когда Климов вместе с Марусей вошел в комнату.
Это произошло как-то само собой, когда Марусина мать пригасила керосиновую лампу, прилегла к младшей дочери, а Любаша забралась на печь. Маруся сама пошла к нему, будто так было условлено. Она пошла прощаться с ним, и Климов понял, что кажущаяся отчужденность ее — печаль, а не холодность. Они сели на его кровать, а потом легли рядом, и это тоже произошло как-то само собой, и Климов опять стал просить Марусю стать его женой, а Маруся сказала: «Ну, считай меня женой, что тебе — загс нужен?» И они стали целоваться, как еще никогда не целовались, и Климов забыл о войне. Он чувствовал, что между ними нет преград, но боялся обидеть Марусю нетерпением или грубостью.
Вспоминая об этом последнем их вечере, он не мог понять, как случилось, что он заговорил о своих жалких связях. Хотелось ли ему очистить близость с Марусей от памяти о других девушках, или то был предлог — полубессознательный — показать ей, какой он зрелый мужчина, — осталось для него тайной. И Маруся ответила ему такой же откровенностью. Старший лейтенант не первый тут женихается, и до него появлялись претенденты на ее руку и сердце, но она всем дала от ворот поворот.
— Я даже не целовалась ни с кем! — с гордостью сказала Маруся, и его покоробило, что она ставит это себе в заслугу.
— А у тебя вообще была в жизни любовь? — спросил он.
— Вот те раз! — Голос ее прозвучал обидой, и она чуть отстранилась от Климова. — А у нас с тобой что же?
— Нет, до меня.
— Такой — нет. Был у меня один человек в Ленинграде, но, конечно, тут никакого сравнения!
— Кто же?
— Да мой хозяин, у кого в домработницах жила, — с жутковатой искренностью призналась Маруся. — Мне из-за него и пришлось уйти, хозяйка заревновала.
— Сколько же тебе лет было?
— Почти восемнадцать.
— Девочка!.. Вот сволочь!
— Нет, он хороший был человек, добрый и невезучий. А я рано вызрела.
— Слишком рано… — пробормотал Климов. Пустота и холод были в нем. До чего пошлая история: домработница путается с пожилым хозяином! Уж лучше бы с Федькой… — И у тебя не осталось зла к нему?
— Да нет… Тебе неприятно? — спросила она обеспокоенно и нежно. — Знаешь, когда мы будем по-настоящему жениться, я к тебе чистой приду. Есть одна женщина в Неболчах, она девушек лечит.
…Как я был счастлив еще несколько минут назад! Черт меня дернул соваться в ее прошлое! Да нет, куда от него денешься? Она молодец, честно все рассказала. Не каждая решилась бы. Она до конца искренна со мной, наверное, правда любит. А ведь такой лопух, как я, сожрал бы любую ложь. Она могла ничего не говорить, я все принял бы как должное. Но я не испытываю ни малейшей благодарности к ней за эту откровенность…
Так и кончилась ничем их последняя нежная ночь. Он еще целовал Марусю, но делал это без души и радости, между ними затесался хороший и невезучий ленинградский человек. И сколько ни твердил себе Климов, что это не имеет никакого значения в их теперешнем положении и Маруся ни в чем не виновата, он должен уважать ее за доверие и честность, — что-то в нем, намертво захлопнулось. Он говорил себе, что когда-нибудь горько пожалеет о своей холодности, о глупой ревности к призраку, — ничего не помогало. Она вдруг приподнялась, поглядела на него сверху вниз, тихо, медленно поцеловала в губы: «Ну, ладно!» — рывком поднялась и вышла из комнаты.