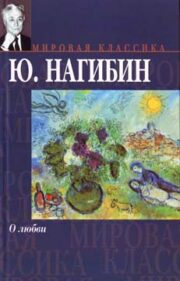Маруся отложила шитье, пососала уколотый палец и убрала работу в комод. Солнце покинуло окна, комнату наполнял спокойный тихий свет, и Маруся стала в нем еще лучше. Климов удивился выражению терпеливой человечности на этом почти детском лице. Эта, вечерняя, Маруся знала о жизни гораздо больше, чем золотая швея, она была сложнее, задумчивее — лихой, бравый лейтенант тут совсем не подходил, но это давало надежду Климову, ведь он был дальше от лихого лейтенанта, чем от жалкого, растерянного мальчишки, так недавно плакавшего в глухом углу двора своего детства.
Маруся вышла из комнаты, предварительно забрав у Климова банку из-под консервов, полную окурков. Банку она опорожнила в помойное ведро, ополоснула и вернула Климову, ни разу не взглянув на него. Новый постоялец скользнул мимо ее души…
А вечером Климов пил разведенный сырец со своим соседом по комнате, художником Заборским. Художник пришел в сопровождении кареглазой связистки и, хотя присутствие Климова явилось для него полной неожиданностью, не смутился и не огорчился.
— Нюсенька. Моя пе-пе-же, — представил он связистку.
Девушка засмеялась:
— Ну и хам! Вы видели таких хамов?
— Нарушаешь! — рявкнул художник. — Я разве разрешил тебе обращаться к лейтенанту?
— Товарищ интендант третьего ранга, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?
— Разрешаю, — важно сказал художник.
— Товарищ лейтенант, разрешите доложить, что товарищ интендант третьего ранга — ужасный хам!
— По форме правильно, по существу — поклеп, — изрек художник. — Наряд вне очереди! К исполнению!
— Да где же я достану? — жалобно сказала связистка.
— У Васьки Шведова, в обмен на одеколон.
А когда связистка побежала выполнять боевое задание, художник сказал, как-то разом постарев широким рязанским лицом:
— Не принимай всерьез мою трепотню. Люблю я ее. Да ведь — молодая, надо строго держать.
Он поднялся и вышел в кухню, Климов услышал его голос:
— А Маруся где?
Ему что-то ответили, он огорченно выругался: «А, черт!»
— Не везет вам, — сказал он Климову. — Хотел вас с хозяйской дочкой познакомить. Такие вам и не снились. Это, доложу я вам…
— А мы уже познакомились!
— Вон что… Любаша! — вдруг гаркнул художник во всю силу легких.
И сразу, как лист перед травой, перед ним встала босоногая голенастая девочка, лет шестнадцати, лицом и красками вылитая Маруся, но иной, удлиненной породы.
— Чего вам, Виктор Николаевич?
— Ничего! — рявкнул художник. — Довольно тебе хорошеть. Брысь отсюда!
Девочка рассмеялась, кокетливо поглядела на Климова и скрылась.
— А-а?.. — сказал художник, и красноватое лицо его стало вишневым. — Какая прелесть! Даже лучше Маруси. И сколько в России таких красавиц!.. Чудное поколение созревало. Жалко девчонок. Пустоцветы растут. Не хватит нашего брата на всех… — Он достал из-под кровати холст, набитый на подрамник, из хаоса мазков проступало нежной охряной смуглоты Любашино, а может, Марусино лицо…
— Начал писать, да времени нет, — пожаловался художник. — Все Гитлера портреты творю, чтоб ему повылазило! Ох и надоел мне Адольф! Всем надоел, а мне особенно. Такая прелесть на холст просится, а я знай рисую чуб да усищи проклятые.
— Это Люба или Маруся? — спросил Климов.
— Любаша, конечно! — даже обиделся художник. — Неужто вы тон не чувствуете? У нее же все краски теплее… Кстати, насчет Маруси особо не обольщайтесь. Сюда старший лейтенант похаживает. Серьезный мужчина, голова как ядро, такой не отступится.
— А неплохо вы тут отдыхаете, — заметил Климов.
— Не говори! Рай, сущий рай!.. Когда мы в Вишере стояли, нас бомбили в хвост и в гриву. Раз прямо в наше присутствие угодило — двоих в лоскутья. А в Лоре, под Вишерой, бомбили редко, зато клопы зажрали — тоска зеленая! Хуже бомбежки. Боже мой, чего я только не делал: и огнем их жег, и керосином прыскал, и ДДТ обсыпался с ног до головы — ни черта не помогло. У них этот порошок вонючий за пудру шел. Ставил ножки кровати в банку с керосином, так они, гады, заползали на потолок и оттуда на меня падали. Барабанили по простыне, как град по крыше. Вскочишь ночью — все тело в огне, простыня красная и шевелится. И такая злоба и бессилие, хоть плачь! Коробка два спичек изведешь — минут на десять сна выиграешь… А здесь ничего похожего, быт северный, чистый, люди с уважением к себе и к окружающим живут… А Маруся будет наша! — И он потянулся стопкой к Климову.
Вошла Нюсенька с чугунком вареных картошек.
— Предупреждаю, — сказал художник, — нам с Нюсенькой передислоцироваться некуда, будем жить а-труа… Нюсь, ты как думаешь, будет он иметь успех у Маруси?
— Конечно, — серьезно и убежденно сказала Нюсенька. — Какое может быть сомнение?
— Почему вы так думаете? — удивился Климов.
— Так у вас же волосы темные! — усмехнулась Нюсенька.
Как ни странно, это качество и в самом деле чрезвычайно ценилось в Ручьевке. На следующий день, довольно рано вернувшись из присутствия, как назвал художник редакцию газеты для войск противника, Климов случайно подслушал разговор деревенских девушек, пришедших в гости к Марусе.
— А он — ничего? — допытывались девушки.
— Худой, а так хорошенький, — это сказала Люба.
— Худой? Он нешто с Ленинградского фронта?
— Ага… Сейчас-то из госпиталя.
Почему Люба так осведомлена на мой счет? Неужели жизнь сыграла одну из своих обычных злых шуток и подарила мне сердце младшей сестры? Дар напрасный, дар случайный… Вернее, дар опасный…
— Дистрофик? — продолжали допытываться девушки.
— Не-а! Вполне в себе, не опухлый.
— Как звать-то?
— Алексей Сергеич… Алешенька! — нежно пропела шестнадцатилетняя Люба и засмеялась.
— Не вахлак?
— Темноволосый! — веско, голосом, за которым ощущалась высокая, просторная грудь, сказала Маруся.
— О-о!.. Вон-на!.. — уважительно отозвались девушки. Климов уже успел приметить, что здешний народ — сплошь и прекрасно светловолос, еще немного, и быть бы ручьевцам альбиносами, но они успели вовремя остановиться на самой последней грани и не обрели при белесости волос ни бледной, мертвячьей кожи, ни кроличьей красноты в глазах, ни бесцветья бровей и ресниц. Верно, ощущая эту альбиносью опасность, они ценили темные краски, что было на руку смуглому брюнету Климову с монгольским разрезом темных, ночных глаз.
— Здравия желаю! — послышался из кухни вежливый мужской голос.
Затем сочно заскрипели хорошие, новые сапоги. Девчата отозвались вразнобой: «Здорово!.. Наше вам!.. Привет!.. Здравствуй, Федя!..» При всем дружелюбии голоса их звучали равнодушно, без подъема. Появившийся человек был тут привычен, признан, но особых восторгов не вызывал. Климов сразу решил, что это и есть старший лейтенант, о котором говорил накануне художник. Он припомнил, что не слышал Марусиного голоса в общем хоре, и это равно могло быть хорошей и дурной приметой: то ли небрежность, то ли не нуждающееся в громком свидетельстве взаимопонимание.
Девушки не разошлись, а продолжали свое вяловатое общение. Насколько Климову было известно, по правилам деревенской вежливости жениха и невесту принято оставлять вдвоем. Впрочем, все сведения о деревенской жизни носили у него книжный характер и касались в основном дореволюционной деревни. С приходом старшего лейтенанта разговор о новом постояльце прекратился, да и о чем было говорить после исчерпывающего заявления Маруси?.. А тут явился пожилой боец в ватных штанах и потребовал Климова к начальству. Климов надел ремни, пилотку и отправился в «присутствие». Минуя кухню, он поздоровался с девушками и сидящим за столом, на лавке, спиной к окошку, круглолицым старшим лейтенантом. Тот, хоть и находился в помещении, пилотку не снял и мог по всей форме ответить Климову. Опрятно, даже нарядно выглядел старший лейтенант, ничего не скажешь: свежая летняя гимнастерка, красивая портупея, блестящие хромовые сапоги, а у Климова — гимнастерка зимняя, ношеная-переношеная, ремни истерлись, на ногах — кирза, стоптанные каблуки. Зато щеголевато сидящая на круглой крепкой голове старшего лейтенанта новенькая пилотка открывала редкие белесые волосы короткой стрижки. Он принадлежал к жалкому племени рано лысеющих бесцветных блондинов, и тут уж едва ли поможет ладная фигура, хорошее правильное лицо, нарядная, только что со склада одежда…