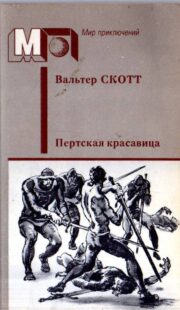Принц был одет очень богато, но с неряшливой небрежностью. При невысоком росте и крайней худобе, он был удивительно изящно сложен, а черты его лица были просто красивы. Но тусклая бледность лежала на этом лице, изнуренном заботами или распутством, либо вместе и тем и другим. Запавшие глаза были мутны, как если бы накануне принц предавался допоздна излишествам пирушки, а щеки горели неестественным румянцем: то ли еще не прошло действие вакхической оргии, то ли утром он вновь приложился к чарке, чтоб опохмелиться после ночного кутежа.
Таков был герцог Ротсей, наследник шотландской короны, возбуждавший своим видом вместе и злословие и сострадание. Все перед ним обнажали головы и расступались, между тем как он повторял небрежно:
— Не к спеху, не к спеху — туда, где меня ждут, я приду и так не слишком поздно. Что там такое? Девушка-менестрель?.. И вдобавок, клянусь святым Эгидием, премиленькая! Стойте, друзья, я не был никогда гонителем музыки… Голос, право, совсем недурен! Спой для меня твою песню с начала, красотка!
Луиза не знала, кто к ней так обратился, но знаки почета, оказываемые всеми вокруг, и то безразличие, та непринужденность, с какой он их принимал, сказали ей, что перед ней человек самого высокого положения. Она начала сызнова свою балладу — и спела ее так хорошо, как только могла. А юный герцог, казалось, даже загрустил или растрогался к концу песни. Но не в его обычае было предаваться печальным чувствам.
— Жалобную песенку ты спела, моя смуглянка, — сказал он, пощекотав под подбородком музыкантшу и, когда она отпрянула, удерживая ее за ворот жакета, что было не трудно, так как он вплотную подъехал на коне к крыльцу, где она стояла. — Но я поручусь, ты, если захочешь, вспомнишь песенку повеселей, ma bella tenebrosa 28. Да! И ты можешь петь в шатре, а не только на вольном взгорье, и не только днем, но и ночью.
— Я не ночной соловей, милорд, — сказала Луиза, пытаясь отклонить галантное внимание, плохо отвечавшее месту и обстоятельствам, хотя тот, кто с нею говорил, казалось, надменно пренебрегал этой несообразностью.
— Что тут у тебя, милочка? — добавил он, отпустив ее ворот и взявшись за сумочку, висевшую у нее на боку.
Луиза с радостью освободилась от его цепкой хватки, развязав узел на ленте и оставив мешочек в руке у принца. Отступив настолько, чтоб он не мог до нее дотянуться, она ответила:
— Орехи, милорд. Осеннего сбора. Принц в самом деле вынул горстку орехов.
— Орехи, дитя?.. Ты поломаешь о них свои жемчужные зубки… испортишь свой красивый голосок, — сказал Ротсей и разгрыз один орех, точно деревенский мальчишка.
— Это не грецкие орехи моего родного солнечного края, милорд, — сказала Луиза. — Зато они растут невысоко и доступны бедняку.
— У тебя будет на что купить еду посытнее, моя бедная странствующая обезьянка, — сказал герцог, и впервые голос его зазвучал искренней теплотой, которой не было и тени в наигранной и неуважительной любезности его первых фраз.
В это мгновение, обернувшись к провожатому за своим кошельком, принц встретил строгий, пронзительный взгляд высокого черноволосого всадника на мощном сизо-вороном коне, въехавшего с большою свитой во двор, покуда герцог Ротсей был занят Луизой, и замершего на месте, чуть ли не окаменевшего от изумления и гнева при этом неподобном зрелище. Даже тот, кто никогда не видел Арчибалда, графа Дугласа, прозванного Лютым, узнал бы его по смуглому лицу, богатырскому сложению, кафтану буйволовой кожи и по всему его виду, говорившему об отваге, твердости и проницательности в сочетании с неукротимой гордыней. Граф окривел в бою, и этот изъян (хоть и незаметный, пока не приглядишься, потому что глазное яблоко сохранилось и незрячий глаз был схож с другим) накладывал на весь его облик печать сурово-недвижной угрюмости.
Встреча царственного зятя с грозным тестем произошла при таких обстоятельствах, что привлекла всеобщее внимание, окружающие молча ждали развязки и не смели дохнуть из боязни опустить какую-нибудь подробность.
Когда Ротсей увидел, какое выражение легло на суровое лицо Дугласа, и понял, что граф не собирается сделать ему почтительный или хотя бы учтивый поклон, он, видимо, решил показать тестю, как мало он склонен считаться с его недовольством. Взяв из рук камергера свой кошелек, герцог сказал:
— Вот, красавица, я даю тебе один золотой за песню, которую ты мне пропела, другой — за орехи, которые я у тебя украл, и третий — за поцелуй, который ты мне подаришь сейчас. Ибо знай, моя красавица: я дал обет святому Валентину, что всякий раз, когда красивые губы (а твои за отсутствием лучших можно назвать красивыми) порадуют меня приятным пением, я прижму их к своим.
— За песню мне уплачено с рыцарской щедростью, — сказала, отступив на шаг, Луиза, — мои орехи куплены по хорошей цене, в остальном, милорд, сделка не подобает вам и неприлична для меня.
— Как! Ты еще жеманишься, моя нимфа большой дороги? — сказал презрительно принц. — Знай, девица, что к тебе обратился с просьбой человек, не привыкший встречать отказ.
— Это принц шотландский… герцог Ротсей, — заговорили вокруг Луизы придворные, подталкивая вперед дрожащую молодую женщину, — ты не должна ему перечить.
— Но мне не дотянуться до вас, милорд! — боязливо промолвила она. — Вы так высоко сидите на вашем коне.
— Если я сойду, пеня будет тяжелей… Чего девчонка дрожит?.. Ставь ногу на носок моего сапога, протяни мне руку! Вот и молодец, очень мило!
И когда она повисла в воздухе, поставив ножку на его сапог и опершись о его руку, он поцеловал ее со словами:
— Вот твой поцелуй, и вот мой кошелек в уплату. И в знак особой милости Ротсей весь день будет носить твою сумочку.
Он дал испуганной девушке спрыгнуть наземь и отвел от нее глаза, чтобы с презрением бросить взгляд на графа Дугласа, как будто говоря: «Все это я делаю назло тебе и твоей дочери!»
— Клянусь святой Брайдой Дугласской, — сказал граф, устремившись к принцу, — ты хватил через край, бесстыдный мальчишка, растерявший и разум и честь! Ты знаешь, какие соображения удерживают руку Дугласа, иначе ты никогда не отважился бы на это!
— Вы умеете играть в щелчки, милорд? — спросил принц и, зажав орех в согнутом указательном пальце, выбил его большим.