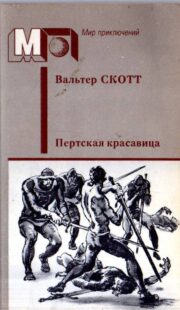Хотя нерешительность короля и граничила с робостью, она не мешала ему принять внушительный вид, какой подобал монарху. Только под давлением тяжелых обстоятельств, как мы видели в предшествующей сцене, он мог утратить видимость самообладания. Вообще же его можно было без труда отклонить от его намерений, но не так легко бывало вынудить его расстаться с достойной осанкой. Он принял Олбени, Дугласа, Марча и приора (этих так плохо подходящих друг к другу членов своего пестрого совета) с той любезностью и величием, которые напоминали каждому из надменных пэров, что он стоит пред своим сувереном, и призывали их к должной почтительности.
Приняв их приветствия, король знаком пригласил их сесть, и, когда они усаживались, явился Ротсей. Принц грациозно подошел к отцу и, став на колени у его скамеечки для ног, попросил благословения. Роберт с плохо скрытой нежностью и печалью попробовал, возлагая руку на голову юноши, придать своему лицу выражение укоризны и сказал со вздохом:
— Да благословит тебя бог, мой легкомысленный мальчик, и да придаст он тебе мудрости на будущие годы.
— Аминь, дорогой мой отец! — ответил Ротсей с глубоким чувством, какое нередко прорывалось у него в счастливые минуты.
Затем с почтительностью сына и вассала он поцеловал руку короля и, поднявшись, не сел среди участников совета, а стал немного сбоку, за королевским креслом, таким образом, что мог, когда захотел бы, шептать на ухо отцу.
Король пригласил настоятеля доминиканцев занять место за столом, где были разложены письменные принадлежности, которыми, если не считать Олбени, из всех присутствующих умел пользоваться один лишь церковник 32. Затем король объяснил цель заседания, сказав с большим достоинством:
— Нам предстоит, милорды, заняться теми злосчастными несогласиями в Верхней Шотландии, которые, как мы узнали из последних донесений наших посланцев, грозят разором и опустошением стране, лежащей в нескольких милях от места, где стоит сейчас наш двор. Но, как будто мало этого несчастья, наша злая судьба и подстрекательство дурных людей вызвали вдобавок смуту совсем близко от нас, подняв раздор и распрю между гражданами Перта и слугами, которых привели с собою вы, милорды, и другие наши бароны и рыцари. Поэтому в первою очередь, господа, я попрошу вас обсудить, почему наш двор тревожат такие непристойные ссоры и какими средствами следует их унять. Брат Олбени, может быть, вы первый выскажете нам ваши соображения по этому вопросу?
— Сэр, наш царствующий суверен и брат! — начал герцог. — Я находился при вашем величестве, когда завязалась драка, и мне неизвестно, как она возникла.
— Я же могу доложить, — сказал принц, — что не слышал более грозного военного клича, нежели баллада странствующей певицы, и не видел более опасных метательных снарядов, чем орехи.
— А я, — добавил граф Марч, — разглядел только одно: бравые молодцы из пертских горожан гнались за какими-то озорниками, самовольно нацепившими на плечи знак кровавого сердца. Они удирали так быстро, что, конечно же, не могли принадлежать к людям графа Дугласа.
Дуглас понял насмешку, но в ответ только бросил испепеляющий взгляд, каким имел обыкновение выражать смертельную обиду. В речи своей он сохранил, однако, надменное спокойствие.
— Моему государю, — сказал он, — конечно, известно, что отвечать на это тяжкое обвинение должен не кто иной, как Дуглас: когда же так бывало, чтобы в Шотландии происходила драка или кровопролитие и злые языки не очернили кого-либо из Дугласов или слуг Дугласа, назвав их зачинщиками? В данном случае имеются надежные свидетели. Я говорю не о милорде Олбени, который сам сейчас заявил, что он, как ему подобает, находился при вашей милости. И я ничего не скажу о милорде Ротсее, который сообразно своему положению, возрасту и разумению щелкал орешки с бродячей музыкантшей… Он улыбается. Что ж, как ему будет угодно… Я не забываю о тех узах, о которых сам он, видимо, забыл. Но мы слышали еще милорда Марча, который видел, как мои люди бежали перед пертским мужичьем! Могу объяснить графу, что воины Кровавого Сердца идут в наступление или отступают, когда им так приказывает их военачальник и когда этого требует благополучие Шотландии.
— На это я отвечу!.. — воскликнул столь же гордый Марч, и кровь бросилась ему в лицо.
Но король его перебил:
— Тише, лорды! Уймите ваш гнев и вспомните, в чьем присутствии вы находитесь!.. А вы, милорд Дуглас, разъясните нам, если можете, из-за чего возник беспорядок и почему ваши воины, чьи добрые заслуги мы всегда готовы признать, так рьяно ввязались в уличную драку.
— Повинуюсь, милорд, — сказал Дуглас, чуть опустив голову, которую редко склонял. — Я с немногими из моей обычной свиты следовал от картезианского монастыря, где я стою, по Хай-стрит, когда увидел толпу горожан самого низкого разбора, собравшуюся вокруг креста, к которому было прибито объявление, а в приложение к нему — вот это.
Он извлек из нагрудного кармана лист пергамента и отрубленную человеческую руку. Король был возмущен и взволнован.
— Прочтите, добрый отец настоятель, — сказал он, — а эту страшную вещь пусть уберут с наших глаз.
Аббат прочитал объявление, гласившее:
— «Поскольку дом одного из граждан Перта минувшей ночью, в канун дня святого Валентина, подвергся нападению со стороны неких бесчинствующих ночных гуляк из числа пришлых людей, пребывающих в настоящее время в Славном Городе, и поскольку сия рука была отсечена в последовавшем сражении у одного из негодяев, нарушивших закон, мэр и члены магистрата распорядились, чтобы она была прибита к кресту на позор и посмеяние тем, кто учинил оный беспорядок. И если кто-либо рыцарского звания скажет, что этим мы совершаем неправильный поступок, я, Патрик Чартерис из Кинфонса, рыцарь, приму вызов и выйду к барьеру в рыцарском вооружении, или если человек более низкого рождения станет оспаривать сказанное здесь, с ним выйдет сразиться один из граждан Славного Города Перта. И да возьмут Славный Город под защиту свою бог и святой Иоанн!»
— Вас не удивит, милорд, — продолжал Дуглас, — что, когда мой раздатчик милостыни прочитал мне эту дерзкую писанину, я велел одному из своих оруженосцев сорвать трофей, столь унизительный для рыцарства и знати Шотландии, после чего кто-то из этих зазнавшихся горожан позволил себе с гиканьем и руганью обрушиться на арьергард моей свиты. Воины повернули своих коней, напустились на мерзавцев и быстро уладили бы ссору, если бы я не отдал прямой приказ следовать за мной — в той мере мирно, в какой это допустит подлая чернь. Так случилось, что мои люди явились сюда в обличье бегущих от преследования, тогда как, прикажи я им отразить силу силой, они могли бы подпалить с четырех концов этот жалкий городишко, и дерзкие горлопаны задохлись бы в дыму, как злые лисята в норе, когда кругом жгут дрок.
Дуглас закончил свою речь среди глубокого молчания. Наконец герцог Ротсей ответил, обратившись к отцу.
— Так как граф Дуглас властен всякий раз, как повздорит с мэром из-за ночного разгула или вызова на поединок, подпалить город, где стоит двор вашего величества, я полагаю, мы все должны его благодарить, что до сих пор он не соизволил этого сделать.
— У герцога Ротсея, — сказал Дуглас, решив, как видно, не давать воли своему крутому нраву, — есть основания благодарить небо не в таком шутливом тоне, как сейчас, за то, что Дуглас не только могуществен, но и верен. Наступило время, когда подданные во всех странах восстают против закона. Мы слышали о мятежниках Жакерии во Франции, о Джеке Соломинке, о Хобе Миллере и пасторе Болле среди южан, и можно не сомневаться, хватит горючего и у нас, чтоб разгорелся пожар, если огонь дойдет до нашей границы. Когда я увижу, что мужичье бросает вызов благородным рыцарям и прибивает руки дворян к городскому кресту, я не скажу, что боюсь мятежа, потому что им меня не напугать, но я его предвижу и встречу в боевой готовности.
— А почему милорд Дуглас утверждает, — заговорил граф Марч, — будто вызов брошен мужичьем? Я вижу здесь имя сэра Патрика Чартериса, а он, полагаю, отнюдь не мужичьей крови. Дуглас и сам, если он так горячо принимает это к сердцу, мог бы, не запятнав своей чести, поднять перчатку сэра Патрика.
— Милорд Марч, — возразил Дуглас, — должен бы говорить лишь о том, в чем он достаточно смыслит. Я не окажу несправедливости потомку Красного Разбойника, если заявлю, что он слишком ничтожен, чтобы тягаться с Дугласом. Наследнику Томаса Рэндолфа более пристало принять его вызов.