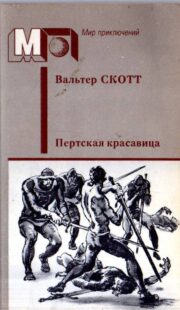— Святая церковь, милорд, всегда держалась именно такого образа действий, — сказал настоятель доминиканцев.
— Итак, пусть уполномоченные с должным усердием приступают к расследованию именем нашего брата Олбени и других лиц, каких мы сочтем удобным включить в состав суда, — сказал король. — Закроем вторично наш совет. А ты, Ротсей, ступай со мною и дай мне опереться на твое плечо — мне нужно поговорить с тобой наедине.
— Стоп! — воскликнул принц таким тоном, как если бы обращался к лошади, объезжая ее.
— Что означает эта грубость, сын мой? — упрекнул его король. — Неужели ты никогда не образумишься и не научишься учтивости!
— Не помыслите, что я хотел оскорбить вас, сударь мой, — сказал принц, — но мы расходимся, так и не решив, как поступить в этом довольно странном происшествии с отрубленной рукой, которую столь рыцарственно поднял Дуглас. Пока двор стоит в Перте, нам тут будет не по себе, если у нас нелады с горожанами.
— Предоставьте это мне, — сказал Олбени. — Раздать немного земель, немного денег да не пожалеть приятных слов, и горожане на этот раз успокоятся, но хорошо бы все-таки предупредить состоящих при дворе баронов с их слугами, чтобы они соблюдали в городе мир.
— Конечно, — сказал король, — так мы и сделаем. Отдай на этот счет строжайший приказ.
— Слишком много чести для мужичья, — сказал Дуглас, — но как угодно будет вашему высочеству. Я, с вашего разрешения, удаляюсь.
— А не разопьете ли с нами на прощанье бутылку гасконского, милорд? — спросил король.
— Простите, — ответил граф, — меня не разбирает жажда, а пить зря я не люблю: я пью только по нужде или по дружбе. — С этими словами он удалился.
По его уходе король облегченно вздохнул.
— А теперь, милорд, — обратился он к Олбени, — следует отчитать нашего непутевого Ротсея. Впрочем, сегодня он сослужил нам на совете добрую службу, и мы должны принять эту его заслугу как некоторое искупление его безрассудств.
— Я счастлив это слышать, — ответил Олбени, но сокрушенно-недоверчивое выражение его лица как будто говорило, что он не видит, в чем заслуга принца.
— Наверно, брат, ты плохо сейчас соображаешь, — сказал король. — Мне не хочется думать, что в тебе заговорила зависть. Разве не сам ты отметил, что Ротсей первый подсказал нам, каким путем уладить дело с горцами? Правда, твой опыт позволил тебе облечь его мысль в лучшую форму, после чего мы все ее одобрили… Да и сейчас мы так и разошлись бы, не приняв решения по другому важному вопросу, если бы он не напомнил нам о ссоре с горожанами.
— Я не сомневаюсь, — сказал герцог Олбени в том примирительном тоне, какого ждал от него король — что мой царственный племянник скоро сравняется мудростью со своим отцом.
— Или же, — сказал герцог Ротсей, — я сочту более легким позаимствовать у другого члена нашей семьи благодатную и удобную мантию лицемерия: она прикрывает все пороки, так что становится не столь уж важно, водятся они за нами или нет.
— Милорд настоятель, — обратился Олбени к доминиканцу, — мы попросим ваше преподобие выйти ненадолго: нам с королем нужно сказать принцу кое-что, не предназначенное больше ни для чьих ушей — ни даже ваших.
Доминиканец, поклонившись, удалился.
Царственные братья и принц остались наконец одни. Король казался до крайности расстроенным и огорченным, Олбени — мрачным и озабоченным, и даже Ротсей под обычной для него видимостью легкомыслия старался скрыть некоторую тревогу. Минуту все трое молчали. Наконец Олбени заговорил.
— Государь и брат мой, — сказал он, — мой царственный племянник с таким недоверием и предубеждением принимает все, что исходит из моих уст, что я попрошу вашу милость взять на себя труд сообщить принцу, что ему следует узнать.
— Сообщение, должно быть, и впрямь не из приятных, если милорд Олбени не берется облечь его в медовые слова, — сказал Ротсей.
— Перестань дерзить, мальчик, — осадил его король. — Ты сам сейчас напомнил о ссоре с горожанами. Кто поднял ссору, Давид?.. Кто были те люди, что пытались залезть в окно к мирному гражданину и нашему вассалу, возмутили ночной покой криком и огнями факелов и подвергли наших подданных опасностям и тревоге?
— Больше, думается мне, было страху, чем опасности, — возразил принц. — Но почему вы спрашиваете? Откуда мне знать, кто учинил ночной переполох?
— В проделке замешан один из твоих приближенных, — продолжал король, — слуга самого сатаны, и виновный понесет должное наказание.
— Среди моих приближенных, насколько мне известно, нет никого, кто способен был бы возбудить неудовольствие вашего величества, — ответил принц.
— Не увиливай, мальчик… Где ты был в канун Валентинова дня?
— Надо думать, служил доброму святому Валентину, как положено каждому смертному, — отозвался беспечно молодой человек.
— Не скажет ли нам мой царственный племянник, чем был занят в эту святую ночь его конюший? — спросил герцог Олбени.
— Говори, Давид… Я приказываю, — сказал король.
— Рэморни был занят на моей службе. Надеюсь, такой ответ удовлетворит моего дядю.
— Но не меня! — гневно сказал отец. — Видит бог, я никогда не жаждал крови, но Рэморни я пошлю на плаху, если можно это сделать, не преступив закона. Он поощряет тебя во всех твоих пороках, участвует во всех безрассудствах. Я позабочусь положить этому конец… Позвать сюда Мак-Луиса со стражей!
— Не губите невиновного, — вмешался принц, готовый любою ценой уберечь своего любимца от опасности. — Даю слово, что Рэморни был в ту ночь занят моим поручением и потому не мог участвовать в этой сваре.
— Ты напрасно лжешь и выкручиваешься! — сказал король и предъявил принцу кольцо. — Смотри: вот перстень Рэморни, потерянный им в той постыдной драке! Перстень этот попал в руки одного из людей Дугласа, и граф передал его моему брату. Не проси за Рэморни, ибо он умрет, и уходи прочь с моих глаз — да покайся, что следовал подлым советам, из-за чего и стоишь теперь предо мной с ложью на устах… Стыдись, Давид, стыдись! Как сын ты солгал своему отцу, как рыцарь — главе своего ордена.
Принц стоял немой, сраженный судом своей совести. Потом он дал волю достойным чувствам, которые таил в глубине души, и бросился к ногам отца.