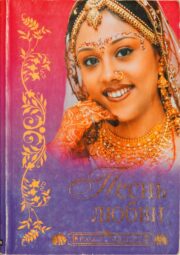Захочешь, скажешь: сладостная пытка,
Иль боль внутри, иль сильные побои,
Иль месть, иль счастье, или вожделенье,
Что души услаждает или губит, —
Я спутался в противопоставленьях.
А вместе с тем пора любви — как праздник,
Когда уста ее смеются вечно, и веянье духов ее отменно.
Любовь прогонит все, что нас испортит, —
В сердца холопов низких не вселится.
Потом она спросила: «Что же она сказала тебе и какие сделала знаки?». И я отвечал: «Я не услышал ничего от нее, но видел только, как она положила указательный палец в рот и потом приложила к нему средний палец и прижала оба пальца к груди, а потом показала на землю, убрала голову из окна и заперла окно. После этого я ее не видел, но эта девушка взяла с собою мое сердце, и я просидел, пока не скрылось солнце, ожидая, что она выглянет из окна второй раз. Она же этого не сделала, и, отчаявшись, я ушел из того места и пришел домой. Вот моя повесть. Прошу тебя, помоги мне в моем испытании».
Азиза подняла голову и сказала: «О сын моего дяди, если бы ты потребовал мой глаз, я бы, право, вырвала его для тебя из века. Я непременно помогу тебе в твоей нужде, и ей помогу, ведь она в тебя влюблена так же, как и ты влюблен в нее». — «Но как истолковать ее знаки?» — спросил я, и Азиза ответила: «То, что она положила палец в рот, указывает, что ты в ней, как душа в ее теле, и что она вопьется в близость к тебе зубами мудрости. Платок указывает на привет от любящих возлюбленным; бумажка же обозначает, что душа ее привязалась к тебе, а прижатие двух пальцев к телу между грудями значит, что она говорит тебе: “Приходи сюда через два дня, чтобы от твоего появления прекратилась моя забота”. И знай, о сын моего дяди, что она тебя любит и доверяет тебе. Вот какое у меня толкование ее знакам, и если бы в моей власти было выходить из дома и входить обратно, я бы, наверное, свела тебя с нею в скорейшем времени и накрыла бы вас своим подолом».
Услышав такие слова от Азизы, я поблагодарил ее и сказал себе: «Потерплю два дня», — просидел два дня, не выходя из дома, не ел и не пил, а сидел лишь, положив голову на колени двоюродной сестры. Она же утешала меня и говорила: «Укрепи свою решимость и отвагу, успокой свои сердце и ум».
А когда прошло два дня, дочь моего покойного дяди сказала мне: «Успокой свою душу и прохлади глаза! Укрепи свою решимость, надень платье и отправляйся к ней, как назначено», — потом поднялась, дала мне переодеться и окурила меня.
Сестра укрепила во мне силу и ободрила мне сердце, и я вышел и шел, пока не вошел в тот переулок. Тогда же присел на лавочку и стал ждать. Вдруг окно распахнулось, и я своими глазами увидел ту женщину. От красоты ее я обмер, а, очнувшись, укрепил свою волю и ободрился сердцем, и взглянул на нее второй раз, но вновь исчез из мира. А когда пришел в себя, то увидел, что женщина держит в руке зеркало и красный платок. Она посмотрела на меня, засучила рукава и, раздвинув свои пять пальцев, ударила себя по груди всей пятерней, а затем подняла руки и выставила зеркало из окна, после чего взяла красный платок и ушла с ним. Когда же вернулась, то три раза опустила его из окна в переулок, то опуская, то поднимая его, потом скрутила его и свернула рукою и наклонила голову. А затем девушка исчезла, заперла окно и ушла, не сказав мне ни единого слова. Напротив, я остался в еще большей растерянности и не мог понять, какие она делала знаки.
Я просидел до вечерней поры, а, придя домой около полуночи, я увидел, что дочь моего дяди положила щеку на руку и глаза ее льют слезы, и говорила она такие стихи:
Что за дело мне, что хулители за тебя бранят!
Как утешиться, если строен ты, как ветвь тонкая?
О видение, что украло душу и скрылося!
Для любви узритской[36] спасенья нет от красавицы.
Как турчанки очи — глаза ее, и разят они
Сердца любящих, как не рубит меч с острым лезвием.
Ты носить меня заставляешь бремя любви к тебе,
Но рубашку я уж носить не в силах, — так слаб я стал.
И я плакал кровью, слова услышав хулителей:
«Из очей того, кого любишь ты, тебе меч грозит».
Если б сердцем был я таков, как ты! Только телом я
На твой стан похож — оно сгублено изнурением.
О, эмир! Суров красоты надсмотрщик — глаза твои,
И привратник — бровь — справедливости не желает знать,
Лгут сказавшие, что красоты все Юсуф взял себе, —
Сколько Юсуфов в красоте твоей заключается!
И стараюсь я от тебя уйти, опасаясь глаз
Соглядатаев, но доколе мне принуждать себя?
И когда я услышал ее стихи, мои заботы увеличились и горести мои умножились. Я упал в углу комнаты, а Азиза встала и перенесла меня, потом сняла с меня одежду и вытерла мое лицо рукавом, спросила, что случилось со мной.
И я рассказал ей обо всем, что испытал от той женщины, и она сказала: «О сын моего дяди, изъяснение знака ладонью и пятью пальцами таково: приходи через пять дней. А знак зеркалом и красным платком, а также то, что она высунула голову из окна, означает: сиди возле лавки красильщика, пока к тебе не придет мой посланный».
Услышав эти слова, я почувствовал, как в моем сердце загорелся огонь, и воскликнул: «Клянусь Аллахом, о дочь моего дяди, ты права в этом объяснении! Я видел в переулке красильщика-еврея!».
И снова слезы тоски стали душить меня, а дочь моего дяди сказала: «Укрепи свою решимость и будь тверд сердцем; другой охвачен любовью несколько лет и стоек против жара страсти, а ты влюблен только три дня, так почему же ты так горюешь?» — и принялась утешать меня речами. А потом принесла еду, и я взял кусочек, желая съесть его, но не смог. Так я отказался от питья и еды, и расстался со сладостью сна. А скоро мое лицо пожелтело, и красоты мои изменились, ведь я прежде не любил и впервые в жизни вкушал жар любви. И я ослаб, и дочь моего дяди ослабла из-за меня. И каждую ночь, пока я не засну, она рассказывала мне о состоянии влюбленных и любящих, чтобы меня утешить. А когда я просыпался, то находил ее не спящей из-за меня, и слезы бежали у нее по щекам.
И я жил так, пока не прошли условленные пять дней, а тогда моя двоюродная сестра нагрела мне воды и выкупала меня, и надела на меня одежду, сказав: «Отправляйся к ней. Да исполнит Аллах твою нужду и да приведет тебя к тому, чего ты хочешь от твоей любимой!».
И я пошел. И шел до, тех пор пока не приблизился к началу того переулка. А день был субботний, и я увидел, что лавка красильщика заперта, поэтому присел подле нее, пока не прокричали призыв к предзакатной молитве. И время прошло, и солнце пожелтело, и призвали к вечерней молитве. И настала ночь, а я не видел ни следа той женщины и не слышал ни звука, ни вести. Тогда я испугался, что сижу один, и поднялся и шел, точно пьяный, пока не достиг дома, а, войдя, увидел, что дочь моего дяди, Азиза, стоит, схватившись рукой за колышек, вбитый в стену, а другую руку к груди прижимает. И она испускает вздохи и говорит такие стихи:
Сильна бедуинки страсть, родными покинутой,
По иве томящейся и мирте Аравии!
Увидевши путников, огнями любви она
Костер обеспечит им, слезами бурдюк нальет, —
И все ж не сильней любви к тому, кого я люблю,
Но грешной считает он меня за любовь мою.
Окончив стихи, она обернулась и увидала меня. А тогда поспешно смахнула слезы рукавом, улыбнулась мне в лицо и сказала: «О сын моего дяди, да обратит Аллах тебе на пользу то, что он даровал тебе! Почему ты не провел ночь подле твоей любимой и не удовлетворил твое желание с нею?». Услышав ее слова, я толкнул ее ногою в грудь, и она упала на стену, ударившись лбом о косяк, а там был колышек, и он попал ей в лоб. И я посмотрел на нее и увидел, что ее лоб рассечен и течет кровь.
Она промолчала и, не сказав ни слова, тотчас же встала, оторвала лоскуток и заткнула им рану, и повязала ее повязкою, потом вытерла кровь, лившуюся на ковер, и, как ни в чем не бывало, подошла и улыбнулась мне в лицо, сказав нежным голосом: «Клянусь Аллахом, о сын моего дяди, я говорила это, не смеясь над тобою и над нею! Я мучилась головной болью, и у меня было в мыслях пустить себе кровь, а сейчас стало легче, и боль облегчилась. Расскажи мне, что с тобою было сегодня».