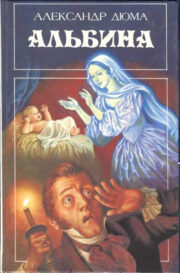Но тут мне неотчего было пробуждаться; это был не сон, а страшная действительность, которая схватила меня своей могущественной рукой и увлекла за собой. Однако что нового случилось в моей жизни? Человек явился в ней, я едва обменялась с ним взглядом и несколькими словами. Какое ж он имеет право связывать судьбу свою с моей и говорить со мной как человек, от которого завишу, тогда как я не давала ему даже… прав друга. Я могу завтра же не смотреть более на него, не говорить с ним, не знать его. Но нет, я не могу ничего… я слаба… я женщина… я люблю его.
Впрочем, понимала ли я что-нибудь в этом? Чувство, которое испытывала я, было ли любовью? И внедряется ли она в сердце, предшествуемая ужасом? Зачем я не сожгла это роковое письмо? Не дала ли я право графу думать, что люблю его, принимая письмо его? Но, впрочем, что могла я сделать? Шум при слугах, при домашних… Нет. Но отдать его моей матери, сказать ей все, признаться ей во всем… В чем же? В детском страхе! Притом, что заключила бы мать моя при чтении подобного письма? Она подумала бы, что каким-нибудь словом, движением, взглядом я обнадежила графа. Нет, я никогда не осмелюсь что-нибудь сказать моей матери.
Но письмо? Надобно прежде всего сжечь его. Я поднесла его к свече, оно загорелось, и таким образом все, что существовало и что не существовало более, превратилось в кучку пепла. Потом я проворно разделась, поспешила лечь в постель и задула в ту же минуту огонь, чтобы спрятаться от себя и скрыться в мраке ночи. Но сколько я ни закрывала глаз, сколько ни прикладывала руки к своему челу, я опять все увидела: это роковое письмо было написано на стенах моей комнаты. Я прочла его не более одного раза, но оно так глубоко врезалось в мою память, что каждая строчка, начертанная невидимой рукой, появлялась по той мере, как предшествующая исчезала; я читала и перечитывала таким образом это письмо десять, двадцать раз, всю ночь. О! Уверяю вас, что между этим состоянием и помешательством самое недалекое расстояние.
Наконец к рассвету я заснула, истомленная усталостью. Когда проснулась, было уже поздно. Горничная сказала мне, что госпожа Люсьен и дочь ее приехали к нам. Тогда внезапная мысль озарила меня: я расскажу все госпоже Люсьен; она была всегда так добра ко мне; у нее я увидела графа Горация; граф Гораций друг ее сына; это самая лучшая поверенная для такой тайны, как моя; само небо мне ее посылает. В эту минуту дверь комнаты отворилась и показалась госпожа Люсьен. О! Я искренно поверила тогда этому посланию. Я встала с постели и протянула к ней руки, рыдая; она села подле меня.
— Посмотрим, дитя, — сказала она через минуту, отнимая мои руки, которыми я закрыла лицо, — посмотрим, что с вами?
— О! Я очень несчастлива, — вскричала я.
— Несчастья в твоем возрасте то же, что весенняя буря, она проходит скоро, и небо делается чище.
— О! Если б вы знали!
— Я все знаю, — сказала мне госпожа Люсьен.
— Кто вам сказал?
— Он.
— Он сказал вам, что я люблю его?
— Он мне сказал, что надеется на это: не ошибается ли он?
— Я не знаю; я всегда знала любовь только по имени: как же хотите вы, чтобы я видела ясно в своем сердце и посреди смущения, ощущаемого мною, отличила чувство, которое производит его?
— О! Так я вижу, что Гораций прочел в вашем сердце лучше вас.
Я принялась плакать.
— Перестаньте! — продолжала госпожа Люсьен. — Во всем этом нет, как мне кажется, большой причины для слез. Поговорим рассудительно. Граф Гораций молод, красив, богат, свободен, вам восемнадцать лет; это будет приличная партия во всех отношениях.
— О! Сударыня!
— Хорошо, не станем говорить об этом более; я узнала все, что мне хотелось. Теперь пойду к мадам Мельен и пришлю к вам Люцию.
— Но ни слова, умоляю вас.
— Будьте спокойны, я знаю, что мне делать. До свидания, милое дитя. Перестаньте, вытрите ваши прекрасные глаза и обнимите меня.
Я бросилась к ней на шею. Через пять минут явилась Люция; я оделась и вышла.
Я нашла мать в задумчивости, но нежнее обыкновенного. Несколько раз во время завтрака она смотрела на меня с чувством беспокойной печали, и каждый раз краска стыда появлялась па лице моем. В четыре часа госпожа Люсьен и ее дочь нас оставили; мать была со мною такой же, как и всегда; ни слова не было произнесено о посещении госпожи Люсьен и о причинах, которые заставили ее приехать. Вечером, когда я по обыкновению подошла к матери, чтобы обнять и поцеловать ее, я заметила у нее слезы; тогда я бросилась перед ней на колени, спрятав голову на груди ее. Увидев это движение, она поняла чувство, которое мне его подсказало, обняла меня, прижала к себе и сказала: «Будь счастлива, дочь моя, вот все, что я прошу от Бога».
На третий день госпожа Люсьен от имени графа сделала официальное предложение.
А через шесть недель я была уже женою графа Безеваля.
X
Свадьба была в Люсьене в первых числах ноября. В начале зимы мы возвратились в Париж. Мать моя дала мне по брачному контракту двадцать пять тысяч ливров ежегодного дохода, граф объявил почти столько же. Дом наш был если не в числе самых богатых, то, по крайней мере, в числе самых изящных.
Гораций представил мне двух друзей своих и просил принять их как своих братьев. Уже шесть лет они были соединены чувствами столь искренними, что в свете привыкли называть их неразлучными. Четвертый, о котором они говорили каждый день и сожалели беспрестанно, убит был в октябре прошлого года во время охоты в Пиренеях. Я не могу открыть вам имен этих двух человек, и в конце моего рассказа вы поймете отчего; но так как иногда буду вынуждена говорить о них, то назову одного Генрихом, а другого Максом.
Не скажу вам, чтобы я была счастлива; чувство, которое я питала к Горацию, было и всегда будет для меня неизъяснимо; можно сказать, почтение, смешанное со страхом; впрочем, это впечатление он производил па всех, кто к нему приближался. Даже оба друга его, по-видимому, столь свободные и фамильярные с ним, противоречили ему редко и уступали всегда, если не как начальнику, по крайней мере, как старшему брату. Хотя оба они были ловки во всех телесных упражнениях, но им было далеко до него. Граф преобразовал бильярдную залу в фехтовальную, в одной из аллей сада тренировались в стрельбе: каждый день эти господа упражнялись на шпагах или пистолетах. Иногда я присутствовала при этих поединках: тогда Гораций бывал скорее их учителем, нежели противником; во всех этих упражнениях он сохранял то страшное спокойствие, которое я видела у госпожи Люсьен, и многие дуэли, всегда оканчивавшиеся в его пользу, доказывали, что хладнокровие, столь редкое в критическую минуту, никогда его не оставляло. Итак, странная вещь! Гораций оставался для меня, несмотря на искреннюю дружбу, существом высшим и не похожим на других людей.
Что касается графа, он казался счастливым, по крайней мере любил повторять это, хотя часто беспокойное его чело показывало противное. Иногда также страшные сновидения тревожили его сон, и тогда этот человек, столь спокойный и храбрый днем, пробуждался среди ночи в ужасе и дрожал как ребенок. Он приписывал эти страхи приключению, случившемуся с его матерью во время ее беременности: остановленная в Сиерре разбойниками, она была привязана к дереву и видела, как зарезали путешественника, ехавшего по одной с нею дороге; из этого следовало заключить, что ему представлялись обыкновенно во сне сцены грабежа или разбоя. Также, чтобы скорее предупредить возвращение этих сновидений, нежели от страха, он клал всегда, ложась спать, у изголовья своей постели пару пистолетов. Это сначала меня очень пугало; я боялась, чтобы он в припадке сомнамбулизма не сделал выстрела; но мало-помалу я успокоилась и приучилась не обращать внимания па эту предосторожность. Но была другая, еще страннее, которой и теперь даже не могу объяснить себе: она состояла в том, что держали постоянно, днем и ночью, оседланную лошадь, готовую к отъезду.
Зима прошла в вечерах и балах. Граф был очень щедр; салоны его соединились с моими, и круг знакомства нашего удвоился. Он везде сопровождал меня с чрезвычайной учтивостью и, что более всего удивило свет, — перестал совсем играть. На весну мы уехали в деревню.
Там мы нашли опять наши воспоминания, наших знакомых и проводили время то у себя, то у своих соседей. Госпожу Люсьен и детей ее мы продолжали считать вторым нашим семейством. Итак, положение мое почти нисколько не изменилось и жизнь моя текла по-прежнему. Одно только иногда ее волновало: это грусть без причины, которая все более и более овладевала Горацием, и сновидения, становившиеся все более и более ужасными.