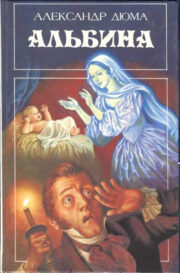— Но, — возразил граф, — мы оба с оружием, условия наши сделаны, для чего же откладывать до завтра дело, которое можем окончить сегодня?
— Я должен сделать некоторые распоряжения, для которых эта отсрочка необходима. Мне кажется, что в отношении к вам я вел себя таким образом, что могу получить это позволение. Что же касается страха, который вы испытываете, то будьте совершенно покойны, повторяю: я дал клятву.
— Этого достаточно, — отвечал граф, кланяясь, — завтра в девять часов.
— Завтра в девять часов.
Мы поклонились друг другу в последний раз и поскакали в разные стороны.
В самом деле отсрочка, просимая мною у графа, едва была достаточна для приведения дел моих в порядок; итак, возвратясь домой, я тотчас заперся в свою комнату.
Я не скрывал от себя, что удача дуэли зависела от случая; я знал хладнокровие и храбрость графа, я мог быть убитым; в этом случае мне должно было обеспечить состояние Полины.
— Хотя во всем рассказанном мною я ни разу не упомянул ее имени, — продолжал Альфред, — но мне нет надобности говорить тебе, что воспоминание о ней ни на минуту не оставляло меня. Я еще раз почувствовал, как сильно люблю Полину, когда, взяв перо, подумал, что, может быть, последний раз пишу ей… Окончив письмо и приложив к нему контракт на десять тысяч франков ежегодного дохода, я адресовал его на имя доктора Сорсея в Гросвенар-Скваре в Лондоне.
Остаток дня и часть ночи прошли в приготовлениях этого рода. Я лег в два часа и приказал слуге разбудить себя в шесть.
Он исполнил в точности данное ему приказание. Это был такой человек, на которого я мог положиться, один из старых слуг, встречающихся в немецких домах, которых отцы завещают своим сыновьям и которого я наследовал от отца. Я отдал ему письмо, адресованное к доктору, с приказанием отвезти его самому в Лондон, если бы я был убитым. Двести луидоров, данные мною, были назначены на издержки во время дороги; в противном случае он оставлял их у себя в виде награды. Я показал ему, кроме того, ящик, где хранилось последнее прощание мое к матери, которое он обязан был отдать ей, если бы судьба мне не поблагоприятствовала. Еще он должен был иметь готовой почтовую карету к пяти часам вечера, и, если в пять часов вечера я не возвращусь, отправиться в Версаль и узнать обо мне. Приняв эти предосторожности, я сел на лошадь и в девять часов без четверти был на месте с секундантами: это были, как мы условились, два гусарских офицера, совершенно не знакомых мне, которые, однако ж, не задумались оказать мне услугу, просимую от них. Для них довольно было знать, что это дело, в котором пострадала честь одной благородной фамилии, чтобы согласиться, не сделав ни одного вопроса… Только французы могут быть всякий раз, когда этого требуют обстоятельства, самыми храбрыми или самыми скромными из всех людей.
Мы ожидали не более пяти минут, когда граф приехал со своими секундантами. Мы пустились на отыскание удобного места и вскоре нашли его, благодаря нашим свидетелям. Прибыв на место, мы объяснили этим господам свои условия и просили их осмотреть оружие: у графа были пистолеты работы Лепажа, у меня работы Девима; те и другие с двойным замком и одного калибра, как, впрочем, бывают почти все дуэльные пистолеты.
Граф подтвердил репутацию храброго и вежливого человека: он хотел уступить мне все выгоды, но я отказался. Итак, решено было, чтобы жребий назначил места и порядок выстрелов; расстояние должно было состоять в двадцати шагах; барьер для каждого из нас отмечен был другим заряженным пистолетом, чтобы мы могли продолжать поединок на тех же условиях, если бы ни одна из двух первых пуль не была смертельной.
Жребий благоприятствовал графу два раза кряду: он имел сначала выбор места, потом первенство; он тотчас стал против солнца, взяв из доброй воли самое невыгодное положение. Я заметил ему это, но он поклонился, отвечая, что так как жребий назначил ему выбор, то он хочет остаться на том же месте, я занял свое.
Когда секунданты заряжали наши пистолеты, я имел время рассмотреть графа и должен сказать, что он постоянно сохранял холодную и спокойную наружность человека, совершенно храброго: он не произнес ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые не согласовались бы с приличиями. Вскоре свидетели подошли к нам, подали каждому по пистолету, по другому положили у ног наших и отошли. Тогда граф возобновил предложение стрелять мне первому, я еще раз отказался. Мы поклонились каждый своим секундантам; потом я приготовился к выстрелу, защитив себя сколько можно и закрыв нижнюю часть лица прикладом пистолета. Едва я успел принять эту предосторожность, как секунданты поклонились нам в свою очередь и старший из них подал сигнал, вскрикнув: «пали!» В то же мгновение я увидел пламя из пистолета графа и почувствовал двойное сотрясение в груди и руке. Пуля повстречала дуло пистолета и, сбившись с пути, ранила меня в плечо. Граф, казалось, удивился, видя, что я не падаю.
— Вы ранены? — сказал он, делая шаг вперед.
— Ничего, — продолжал я, взяв пистолет в левую руку. — Теперь моя очередь. Граф бросил разряженный пистолет, взял другой и стал опять на место.
Я целился медленно и холодно, потом выстрелил. Сначала я думал, что дал промах, потому что граф стоял неподвижно и даже начал поднимать второй пистолет; но прежде, нежели дуло пришло в горизонтальное положение, судорожная дрожь овладела им; он выронил оружие, хотел говорить, но кровь залила ему горло, и он упал мертвым: пуля прострелила ему сердце.
Секунданты подошли сначала к графу, потом ко мне. Между ними был хирург; я просил оказать помощь моему противнику, которого считал только раненым.
— Это бесполезно, — отвечал он, качая головой, — теперь ему не нужна ничья помощь.
— Исполнил ли я все обязанности чести, господа? — спросил я у них.
Они поклонились в знак согласия.
— В таком случае, доктор, я попрошу вас, — сказал я, снимая с себя верхнее платье, — перевязать чем-нибудь мою царапину, чтобы остановить кровь, потому что я еду сию же минуту.
— Кстати, — сказал мне старший из офицеров, когда хирург окончил свою перевязку, — куда должно отнести тело вашего друга?
— В улицу Бурбонов, № 16, — отвечал я, улыбаясь против волн простодушию этого храброго человека, — в дом господина Безеваля.
При этих словах я вскочил на свою лошадь, которую одни гусар держал в руках с лошадью графа, и, поблагодарив в последний раз этих господ за их доброе и законное присутствие, простился и поскакал по дороге в Париж.
Я приехал вовремя; мать моя была в отчаянии: не видя меня с завтрака, она вошла в мою комнату и в одном ящике бюро нашла письмо, которое я написал к ней.
Я вырвал его из ее рук и бросил в огонь с другим, адресованным Полине; потом обнял ее, как обнимают мать, которую оставляют, не зная, когда с нею увидятся, и с которой расстаются, может быть, навсегда.
XVI
Через восемь дней после сцены, рассказанной мною, продолжал Альфред, мы сидели в нашем маленьком домике в Пиккадилли и завтракали за чайным столом один против другого. Вдруг Полина, читавшая английскую газету, ужасно побледнела, выронила ее из рук, вскрикнула и упала без чувств. Я звонил изо всех сил, горничные сбежались; мы перенесли Полину в спальню, и, пока ее раздевали, я вышел, чтобы послать за доктором, и, заглянув в газету, понял причину ее обморока. Мой взгляд упал на эти строки:
«Сейчас мы получили странные и таинственные подробности о дуэли, происходившей в Версале и имевшей причиною, как кажется, неизвестные побуждения ужасной ненависти.
Третьего дня, 5 августа 1833 года, двое молодых людей, по-видимому, принадлежащих к парижской аристократии, приехали в наш город каждый со своей стороны верхом и без слуги. Один отправился в казармы, стоящие в Королевской улице, другой в кофейню Регентства, там просили они двух офицеров сопровождать их на место дуэли. Каждый из соперников привез с собой оружие. Окончив условия поединка, противники выстрелили один по другому, на расстоянии двадцати шагов; один из них был убит, другой, имени которого не знают, уехал в ту же минуту в Париж, несмотря на значительную рану, полученную им в плечо.
Убитый — граф Безеваль. Его противник неизвестен».
Полина прочла эту новость, и она произвела на нее тем большее действие, что я не принял никаких приготовительных мер. С самого возвращения своего я ни разу не произносил при ней имени ее мужа, хотя чувствовал необходимость открыть ей когда-нибудь случай, сделавший ее свободной, не объясняя, однако ж, кто был тому причиной; но еще не решился, каким образом исполнить это.