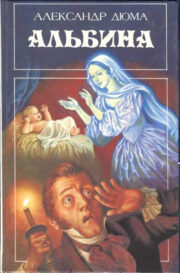В эту минуту вошел доктор, я сказал ему, что сильное волнение привело Полину к новому припадку. Мы вошли вместе в ее комнату; больная была еще без чувств, несмотря на воду, которой вспрыскивали ей лицо, и соли, которые давали ей нюхать. Доктор говорил о кровопускании и начал делать приготовления к этой операции; тогда вся твердость моя исчезла: я задрожал, как женщина, и бросился в сад.
Там я провел около получаса, склонив голову на руки, раздираемый тысячами мыслей, бродивших в уме моем. Во всем прошедшем я действовал из двойного интереса — ненависти моей к графу и дружбы к сестре; я проклинал этого человека с того самого дня, когда он похитил все мое счастье, женившись на Полине, и потребность личного мщения, желание отплатить физическим злом за мучения моральные заставили меня выйти из себя против воли. Я хотел только убить или быть убитым. Теперь, когда все уже кончилось, я начинал видеть последствия.
Меня ударили по плечу: это был доктор.
— А Полина? — вскричал я, сложив руки.
— Она пришла в чувство…
Я встал, чтобы бежать к ней; доктор остановил меня.
— Послушайте, — продолжал он, — теперешний случай очень важен для нее; она имеет нужду в покое… Не входите к ней в эту минуту.
— Почему же? — сказал я.
— Потому что ее надобно предохранить от всякого сильного волнения. Я никогда не спрашивал вас об отношениях ваших к ней, не требую от вас доверенности; вы называете ее сестрой: правда ли, что вы брат ей, или нет? Это не относится ко мне, как человеку; но очень относится, как к доктору. Ваше присутствие, даже ваш голос имеют над Полиной видимое влияние… Я всегда замечал это, и даже сейчас, когда держал ее руку, одно произнесение вашего имени чувствительно ускорило биение ее пульса. Я велел никого не впускать к ней сегодня, кроме меня и служанок; не пренебрегайте ж моим приказанием.
— Она в опасности? — вскричал я.
— Все опасно для такого расстроенного организма, как ее; если бы мог, я дал бы этой женщине питье, которое бы заставило ее забыть прошедшее. Ее мучит какое-то воспоминание, какая-то горесть, какое-то угрызение.
— Да, да, — отвечал я, — ничто от вас не скрылось, вы увидели все глазами науки. Нет, это не сестра моя, не жена, не любовница; это ангельское создание, которое я люблю выше всего, но которому не могу возвратить счастья, и оно умрет на руках моих с непорочным и мученическим венком!.. Я сделаю все, что вы хотите, доктор; я не буду входить к ней до тех пор, пока не позволите, я буду повиноваться вам как ребенок; но скоро ли вы возвратитесь?
— Сегодня…
— А я что буду делать, Боже мой?
— Ободритесь, будьте мужчиной!
— Если бы вы знали, как я люблю ее!
Доктор пожал мне руку; я проводил его до ворот и там остановился, не думая двинуться с места; потом, выйдя из этого бесчувствия, машинально взошел по лестнице, подошел к ее двери и, не смея войти, слушал. Мне показалось сначала, что Полина спит, но вскоре какие-то приглушенные рыдания достигли моего слуха; я положил руку на замок, но, вспомнив свое обещание и боясь изменить ему, бросился из дому, впрыгнул в первую попавшуюся мне карету и приказал везти себя в Королевский парк.
Я бродил там около двух часов, как сумасшедший, между гуляющими, деревьями и статуями. Возвращаясь домой, я встретил у ворот слугу, бежавшего за доктором; с Полиной случился новый нервический припадок, после которого она начала бредить. На этот раз я не мог выдержать, бросился в ее комнату, стал на колени и взял ее руку, свесившуюся с постели. Дыхание ее было тяжело и прерывисто; глаза закрыты, и несколько слов без связи и без смысла судорожно выходили из уст ее. Доктор вошел.
— Вы не сдержали своего слова, — сказал он.
— Увы! Она не узнает меня! — отвечал я.
Однако ж при звуках моего голоса я почувствовал, что рука ее задрожала. Я уступил свое, место доктору; он подошел к постели, пощупал пульс и объявил, что второе кровопускание необходимо. Но, несмотря на выпущенную кровь, волнение все усиливалось и к вечеру открылась у нее белая горячка.
В продолжение восьми суток Полина была добычею ужасного бреда; она не узнавала никого, думая, что ей угрожают, и призывая беспрестанно к себе на помощь. Потом болезнь начала терять свою силу; совершенная слабость и истощение следовали за этим безумным бредом. Наконец в девятое утро, открыв глаза после, несколько спокойного сна, она узнала меня и назвала по имени. Невозможно описать, что происходило тогда во мне; я бросился на колени, положил голову на ее постель и начал плакать, как ребенок. В эту минуту вошел доктор и, боясь, чтобы не сделалось с нею волнения, приказал* мне выйти. Я хотел противиться, но Полина пожала мне руку, говоря сладостным голосом:
— Идите!
Я повиновался. Восемь суток я почти не смыкал глаз, сидя у ее постели, но теперь, успокоясь, тотчас погрузился в сон, в котором так нуждался.
В самом деле, горячка начала мало-помалу уменьшаться, и через три недели у Полины осталась только большая слабость. Но в продолжение этого времени хроническая болезнь, которою она страдала в прошлом году, усилилась. Доктор предписал ей лекарство, которое уже ее излечило, и я решился воспользоваться последними прекрасными днями года, чтобы посетить с нею Швейцарию и оттуда проехать в Неаполь, где думал провести зиму. Я сказал Полине об этом намерении, она улыбнулась печально и с покорностью дитяти согласилась на все. Итак, в первых числах сентября мы отправились в Остенд, проехали Фландрию, совершили путешествие вверх по Рейну до Баля; посетили озера Биенское и Невшательское, останавливались на несколько дней в Женеве, наконец побывали в Оберланде, Брюниге и проехали в Альторф, где ты встретил нас в Флелене на берегу озера четырех кантонов.
Ты поймешь теперь, отчего мы не могли подождать тебя: Полина, увидев намерение твое воспользоваться нашей шлюпкой, спросила у меня твое имя и вспомнила, что часто встречалась с тобой у графини М., у княгини Бел… При одной мысли быть вместе с тобою лицо ее приняло такое выражение страха, что я, испугавшись, приказал гребцам отчалить при помощи весел, и, верно, ты приписал это моей невежливости.
Полина легла в глубине шлюпки, я сел подле нее и положил ее голову на свои колени. Прошло уже целых два года, как она оставила Францию, страдающая и только во мне имеющая опору. С того времени я был верен обязательству, которое принял на себя; я заботился о ней, как брат, чтил ее, как сестру; я напрягал все способности своего ума, чтобы предохранить ее от горести и доставить ей удовольствие; все желания моей души вращались вокруг надежды: быть любимым ею. Когда мы долго живем с кем-нибудь, бывают мысли, которые приходят в одно время обоим вместе. Я увидел глаза ее, омоченные слезами; она вздохнула и, пожимая мою руку, которую держала в своей, сказала:
— Как вы добры!
Я содрогнулся, услышав ответ на мою мысль.
— Все ли я исполняю, что должно? — спросил я.
— О! Вы были ангелом-хранителем моего детства, улетевшим на минуту и которым Бог наградил меня теперь под именем брата.
— И взамен этой преданности не сделаете ли вы чего-нибудь для меня?
— Увы! Что могу я сделать теперь для вашего счастья! — сказала Полина. — Любить вас?.. На виду этого озера, этих гор, этого неба, всей этой возвышенной природы, в присутствии Бога, который создал их, я люблю вас, Альфред! Я не открываю вам ничего нового, произнося эти слова.
— О! Да, да; я это знаю, — отвечал я, — но не довольно любить меня; надобно, чтобы жизнь ваша была соединена с моею неразрывными узами, чтобы это покровительство, которое я получил как милость, сделалось для меня правом.
Она печально улыбнулась.
— Зачем вы так улыбаетесь? — спросил я.
— Потому что вы видите всегда земное будущее, а я небесное.
— Еще!.. — сказал я.
— Без заблуждений, Альфред: они-то делают горести тяжкими и неисцелимыми. Неужели вы думаете, что я не известила бы мать свою о моем существовании, если бы сохранила какое-нибудь заблуждение. Но тогда я бы должна была в другой раз оставить ее и вас, а этого уже слишком много. Я сжалилась сначала над собою и лишила себя большой радости, чтобы пощадить потом от сильной горести.
Я сделал движение, чтобы умолять ее.
— Я люблю вас, Альфред, — повторяла она, — я буду говорить это до тех пор, пока язык мой будет в состоянии произносить два слова; но не требуйте от меня ничего более и позаботьтесь о том, чтобы я умерла без угрызений…