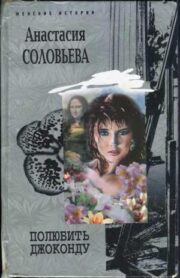— Да ты что, в какие там монахи! — Шумно радуясь встрече, Гришка махал руками, точно отгоняя привидение. — Банальней все! Женился я — вот и все монашество! Мы с супругой съехались. Теперь живем как баре — в своей двухкомнатной квартире. Правда, с тремя детьми! — Гришка весело заржал. — Как пошли дети, так наше барство и кончилось! А тут еще четвертый на подходе! — сквозь смех с трудом выговаривал он.
Но нет дыма без огня. Гришка действительно обратился в православие и работал теперь в иконописной мастерской московского монастыря — писал для братии иконостасы. С тех пор мы с ним стали перезваниваться, изредка встречались.
Вернувшись домой, я позвонил Гришке.
— Есть работенка по твою душу, — заговорил я вдруг языком Губанова, почему-то опасаясь, что Гришка будет отнекиваться.
Так и вышло. Гришка невнятно мямлил и не брал заказ.
— Тебе там делов-то на несколько дней, — уговаривал я. — А стоит «жигуленок».
— У меня есть «жигуль».
— Жене купишь.
— Ей ни к чему.
— Тебе что — деньги не нужны? Или писать живых людей уставы не велят? — допытывался я.
— Не в том дело… — темнил Гришка.
И я решил к нему съездить.
— Гриш, ты дома сейчас? Я заеду к тебе?
— Валяй! — оживился тот. — Жду!
И я опять вышел под непрерывно падающий снег.
Напротив Гришкиного дома я заскочил в универсам. Здесь, не размениваясь по мелочам и экономя время, взял бутылку «Абсолюта», батон сухой колбасы и пирожных для детей.
Открыл Гришка. Он, подавая мне какие-то знаки вытаращенными глазами, зашептал:
— Блаженное время! Снимай ботинки — проходи на кухню.
По мертвой тишине в квартире я понял — все спят, чему Гришка несказанно рад.
Мы вошли на кухню под натянутые струны, с которых свисало детское белье. Гришка прикрыл дверь, на цыпочках протанцевал к столу и аккуратно выставил два мутноватых стакана.
— Ну-с, вздрогнем! — выдохнул он и вдруг застыл, прислушиваясь к неясному шебуршению за дверью.
Выпили. Гришка захмелел с первого же полстакана. Он торопливо изрезал колбасу толстыми кружками и теперь ловко вкидывал их себе в рот.
— Как иконы идут? — Я начал прощупывать почву.
— Да-а… — кисло протянул Гришка, разливая по второй. — Кто платит, тот и музыку заказывает. А платят спонсоры. А спонсоры знаешь кто? А батюшки перед ними…
— Какие батюшки? — не понял я.
— Да священники. Настоятели храмов, — сморщился Гришка, выпив. — Им оттуда приходит приказ, — Гришка указал в белье под потолком, — храм должен быть во что бы то ни стало украшен — расписан по высшему сорту. А денег нет! Вот батюшки и ищут спонсора. И находится такой дядя. А дядя уж уверен, раз он платит, значит, все должно быть в его вкусе. А какие у дяди вкусы?
— Хамские, — усмехнулся я, вспомнив Иннокентия Константиновича.
— Молодец! — Гришка пьяно шмыгнул носом. — Догадлив, парниша! Вот и получается…
— А чего ж ты парсуну отказываешься писать? — Я приступил к делу. — Они полагаются на твой вкус.
— Я и сам думал: может, зря отказался? Но, понимаешь… Где эту кралю мне писать-то? В мастерской? Места нету. На головах сидим друг у друга. Да и ребята засмеяли бы. Дамочка эта с первого же сеанса сбежала б. Конфуз! Не сюда же ее звать? Да и тут где? На кухне? — Гришка мрачно хмыкнул.
— Слушай! — сообразил я. — Я ж один сейчас в трехкомнатной квартире. Прихожу только вечером — спать. Хоть весь день пиши. Никто тебе не помешает.
— Ах да, вы же в разводах… — Гришка энергично зачесал затылок. Он был согласен.
— Завтра и начинай, — подхватил я.
— Может, мне всегда теперь парсуны писать? — Гришку бросило в другую крайность.
— Ты эту напиши, — сказал я, вставая.
Глава 3
Я поставила будильник на половину восьмого и проснулась в кромешной тьме. За стеной муж и дочка, звеня чайной посудой, оживленно спорили о чем-то. Я прислушалась, но слов не разобрала.
Все-таки порадовалась. Пусть мое существование под одной крышей с мужем тяжело и унизительно, зато у Елены есть отец — родной человек, с которым можно поспорить и посмеяться за завтраком.
В первые месяцы моей работы у Карташова, когда, почуяв неладное, муж начал замыкаться, внутренне уходить от меня, я тешила себя мыслью, что это ненадолго. Вот соберусь с силами и все-все расскажу ему… Но сил так и не хватило. Постепенно Лешка перестал видеть во мне не только жену, но и вообще человека — превратил в бесплатную домработницу. Чувствуя в этом долю своей вины, я все же озлобилась.
В глубине души я знала: дело в Лешке! В его природной холодности и недоверчивости. Именно поэтому я сразу стала скрывать от него случившееся. Я поступила глупо, как маленькая. Но все же, если представить… Сначала он отчитал бы меня за безалаберность, потом, немного успокоившись, порадовался бы, что сам он в этой клинике мелкая сошка. А дальше, окончательно придя в себя, начал бы давать наставления, как лучше разговаривать с Карташовым: решительно! Резко! Не мямлить!
Я на сто, нет, на двести процентов была уверена, что не услышу от него ни слова сочувствия. И это было бы самым страшным ударом. Я смалодушничала — захотела защититься от этого удара, но в результате совсем запутала свою и Лешкину жизнь.
— Пап, я ушла! — крикнула Лена из прихожей.
— Давай, до вечера, — попрощался муж.
— Ты сегодня во сколько вернешься?
— Сегодня? Да часиков в девять…
Девять часов — прекрасное время. Они поужинают, так же уютно болтая, посмотрят Ленкины уроки: физику и геометрию она всегда делает с отцом, потом включат телевизор.
Где-то в это время буду я?..
Вчера Карташов так объяснил мне ситуацию:
— Новое задание — дело совсем другого уровня! И деньги тут другие… И вообще, — добавил он, немного подумав, — справишься — больше не буду трогать тебя.
— Как это?
— Очень просто. Получишь свободу!
Я не поверила. Я давно привыкла не верить ему. Если верить — от пустых надежд сойдешь с ума. Но все же сердце у меня тогда екнуло то ли радостно, то ли тревожно…
Мы стояли в тихом заснеженном палисаднике какого-то старинного дома. В белом фонарном свете порхали снежинки. Карташов, нервно глянув на часы, с досадой бросил недокуренную сигарету.
— Пошли!
Дом поразил меня пространством и пустотой. Предводимые высоким породистым господином (в хорошем светло-сером костюме, в золотых очках, с неуловимым акцентом — немецкий профессор, решила я), мы прошли анфиладу полутемных, пахнущих ремонтом залов и оказались в небольшой, как попало меблированной комнате. Хозяин уселся к письменному столу, нам с Карташовым достались колченогие стулья.
— Это она? — Немец кивнул в мою сторону.
— Она самая. — Карташов напрягся.
Хозяин был недоволен. Карташов оправдывался. Дескать, если меня нормально причесать и одеть… Действительно, в вязаной шапке, надвинутой на глаза, бесформенном китайском пуховике и подростковых ботинках на десятисантиметровой подошве вид я имела не самый привлекательный.
— Ты не понял, что от тебя требуется? — В тоне хозяина прозвучала угроза.
Его акцент, неожиданно сообразила я, вовсе не немецкий, а старорусский; так говорили эмигранты первой волны, так говорила и Марина Влади.
Карташов опять затараторил. Хозяин небрежно махнул рукой и перешел к главному. Нужно войти в доверие к одному человеку. Художнику. Он будет писать мой портрет. За время сеансов я должна стать ему очень близкой, необходимой.
— Что вы хотите этим сказать? — спросила я.
Он, не глядя, безразлично кинул:
— То, что сказал.
Дальше пошла конкретика: завтра первый сеанс. Мне позвонят и объяснят, куда ехать. Всю информацию передавать Карташову. Это как обычно. И вот еще что. Портрет будет в полный рост и в иконописном стиле. То есть одета и накрашена я должна быть соответственно.
Теперь, дожидаясь ухода мужа, я думала о том, что надеть. Ничего подходящего у меня не было: каждый день я таскала джинсы, свитера и футболки, купленные на вьетнамском рынке. В шкафу болтался невостребованный офисный костюм, маленькое черное платье… Ни то ни другое с иконописным стилем не вяжется.
Можно, правда, порыться в Ленкиных вещах. В последнее время свекровь усиленно дарит ей одежду, каждый раз указывая на воспитательное значение подарка: