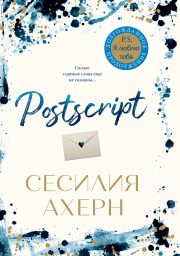– Как же я упущу возможность все перемерить! – Она принимает всякие провокационные позы, а дверной проем служит ей рамой. – Надену-ка я, пожалуй, вот эту штучку в пятницу вечером.
– Какую именно? На тебе их не меньше трех.
На то, чтобы рассовать накопившийся за десять лет хлам в мусорные мешки или, сложив его в коробки, начать копить хлам в новом жилье, уходит гораздо больше времени, чем я рассчитывала, потому что каждое письмо, каждый чек и дно каждого кармана каждых джинсов имеет свою историю и жаждет мне ее рассказать. И хотя на работе я занимаюсь этим довольно расторопно, тут примешивается личный аспект, и каждая бумажка – сущая кроличья нора, через которую я лечу в прошлое. Понимаю, что времени на это у меня нет, но сижу час и два, до ночи. Куда легче обстоит дело с одеждой, туфлями, сумками и книгами, у которых сентиментальной ценности нет. Все, что я ни разу не надела в течение года (и вообще не могу понять, как такое можно было купить), прямиком идет в мешки для благотворительности.
Поначалу это травмирует. Вокруг горы всего. Кучи. И хаос только усиливается, когда поднимаешь какую-то штуку с ее насиженного места, и ненужность этой штуки просто лезет в глаза.
«Триаж» – назвала это Киара. Профессиональный термин в менеджменте. Сортировка и установление очередности.
– Уму непостижимо, как вещи доходят до того, чтобы занять место на полке твоего магазина.
– Потому-то твоя работа – разбирать мешки и коробки. А я всегда хотела то, что другим людям на фиг не нужно, – с вызовом говорит Киара. – Мэтью считает, что это проклятие, но я-то знаю, что это дар, ведь именно потому я и вышла за него замуж. Я так ему и сказала!
Я сижу на полу спиной к стене и смеюсь. У меня перерыв.
– Я так рада, что ты это делаешь, – говорит она, тоже усаживаясь на пол, ноги врозь, эластичные носки поверх колготок. На носки и колготки надевает сандалии с длинными ремешками. – Я горжусь тобой. Мы все гордимся.
– Вы все, надо полагать, не слишком высокого обо мне мнения, раз простой факт, что я продаю дом, заставляет мной гордиться.
– Ну, не так он и прост, и ты сама это знаешь.
Еще бы мне не знать.
– А что, если я скажу тебе, что дело не столько в эмоциональной готовности повзрослеть, сколько в том, что кухня моя нуждается в ремонте, окна пора менять, а пол в гостиной ходуном ходит? Так что я постелила ковер, чтобы те, кто приходит смотреть дом, этого не заметили.
– Отвечу, что горда тобой потому, что ты не пошла на дно с кораблем. – Сестра улыбается, но как-то зыбко. – Я так боялась за тебя все эти месяцы!
– Я в порядке.
– Теперь нужно найти, куда мы тебя поселим! – нараспев выводит Киара, размахивая кружевным шарфом, словно на гимнастике лентой.
– Все, что я пока видела, – ужасная гадость. Представь, в последней берлоге была ванная цвета авокадо, семидесятых годов!
– Ретро – это шик.
– Без сорокалетней колонии кишечных палочек – куда шикарнее.
– Я думаю, – хмыкает Киара, – ты просто ищешь отговорку. Я думаю, ты знаешь, где хочешь жить.
Чувствую, как саднит рваная рана на сердце. Дает мне знать, что она еще здесь. Сколько ни старайся сосредоточиться на чем-то другом, без моих усилий она не срастется. Я оглядываю спальню:
– Мне будет этого не хватать.
– Да ну, отстой! – дразнит меня сестра.
– Я не хочу все забыть, я даже хоть что-нибудь забывать не хочу, но… – Я закрываю глаза. – Но я хочу спать в комнате, где меня не будет донимать бессильное желание прижаться к тому, кто давно ушел и никогда не вернется. И хочу просыпаться в комнате, в которой меня не мучили раз за разом одни и те же кошмары.
Киара не отвечает, и я открываю глаза. Она роется в очередном мешке.
– Да что ж это такое! Я тут перед тобой открываю душу…
– Извини, дорогая. – Она вытягивает из мешка старые трусики. – Смотри-ка, теперь я вполне понимаю, как болезненны воспоминания, от которых ты пытаешься избавиться. Скажи мне, сколько им лет, и пообещай, что их никто никогда не видел!
Я со смехом пытаюсь их отобрать.
– Этот мешок – в мусор!
– Не знаю, не знаю. Пожалуй, они сгодятся украсить мою новую шляпку. – Она натягивает трусы на голову и садится в позу. Я сдираю их с ее головы.
– Корни и крылья! – вдруг серьезно говорит Киара. – Нет, я тебя очень хорошо слышала. Мы с Мэтью недавно ездили за вещами к одной женщине, которая продавала дом, где она выросла. У нее мать умерла, и дом никак не продавался. Она спросила меня, можно ли иметь сразу и корни, и крылья. Сохраняя дом, она держится за мать и воспоминания, а продав его, получит финансовую независимость и другие возможности. Корни и крылья.
– Корни и крылья, – с удовольствием повторяю я и, вздохнув, добавляю: – Ненавижу прощания. – И, как мантру, сама себе бормочу: – Однако же ненависть к прощаниям – не повод остаться.
– И страх перед прощанием – не повод уйти первой, – подхватывает Киара.
В изумлении на нее смотрю.
– А что? – пожимает она плечами.
Мы выходим, чтобы уложить мешки в фургон, и тут звонит мой телефон, оставшийся в доме. Бегу внутрь, но не успеваю. Звонок от Дениз, и у меня все внутри переворачивается от страха. Даю себе минуту, чтобы отдышаться, и перезваниваю. Она отвечает немедленно:
– Я думаю, что тебе нужно приехать.
– О господи!
– Только что уехали ее родители. Она без сознания, но, мне кажется, она знала, что это они.
– Я сейчас буду.
В доме Дениз тихо. Верхнее освещение отключено, в коридорах и комнатах горят лампы и свечи. Все звуки приглушены, и разговариваем мы вполголоса. Последние четыре недели, с тех пор как Том и Дениз стали официальными опекунами девочки, Джуэл и Джиника живут с ними, и для Джиники важно, даже в этом ее состоянии, находиться там, где будет расти ее дочь, дышать тем же воздухом. Прижимая к себе и отпуская. Том доводит меня до комнаты, где Дениз сидит у постели, держит Джинику за руку.
Дышит она еле слышно, словно уже едва здесь. Уже несколько дней без сознания.
Сажусь, беру за другую руку, правую, которой она пишет, и целую ее.
– Здравствуй, милая моя девочка.
Мать, дочь, форвард, борец. Редкостная молодая женщина, которой досталась только крупица целого, но она дала мне, и всем нам, так много! Как это ужасно несправедливо… потому что правда несправедливо. Я держала за руку Джерри, когда он покидал этот мир, и вот снова я прощаюсь с человеком, которого полюбила. И я правда люблю эту девочку, она вошла в мое сердце. От того, что ты свидетель перехода из света в тень, от того, что успела сказать «прощай», легче не станет – нечего и надеяться. Но то, что ты готова сама и помогаешь ей быть готовой, все-таки облегчает страдание, гасит гнев и отчаяние от столкновения с грубой реальностью. Говорят, «как нажито, так и прожито», но не в этом случае. Приход в этот мир – испытание и для матери, и для ребенка. Жизнь выталкивает нас в этот мир, а, покидая его, мы боремся за то, чтобы остаться.
Мы с Дениз сидим с Джиникой все время, которое ей еще осталось, до тихого ухода ее из того мира, каким он ей достался. Что душа теплится в ней, видно по одному дыханию, и вот настает момент, когда вдох она делает, а выдох – нет, и жизнь оставляет ее, а смерть – подхватывает. Болезнь была тягостная, а уход оказался мирный, как я и обещала. И вот она тихонько лежит на постели, ресницы не трепещут, грудь не вздымается, дыхание не рвется. И, исполненная надежды, я представляю себе, как налитая солнцем душа, освободясь из этого тела, взлетая, танцует, кружится, парит. Прах к праху, тлен к тлену, но, боже мой, лети, Джиника, лети.
Присутствовать при этом таинстве, трагическом и огромном, безусловно, честь, и со временем – возможно, это эгоистично – от того, что рядом ты был до конца, все-таки легче. Я навсегда запомню, как мы с Джиникой встретились. Навсегда запомню, как мы расстались.
И словно понимая, что случилось, словно чуя свою великую потерю, в соседней комнате с плачем проснулась Джуэл.
С красными глазами, без сил, мы – Дениз, Джуэл, Том и я – собираемся вокруг кухонного стола. Достаю из сумки шкатулку, ставлю ее на стол.
Письмо Джиники.
– Это для тебя, Джуэл. От мамы.
– Мама, – лопочет она, дергая себя за пальчики ног.
– Да, мама. – Я смахиваю слезу. – Мама так тебя любит. – Поворачиваюсь к Дениз: – Теперь это твоя ответственность.
Дениз берет шкатулку, гладит крышку: