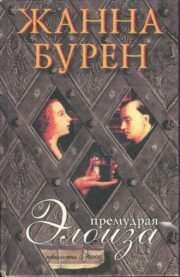Не скрою — много долгих лет воспоминания о прошлом были для меня адом. Моя память с неизменной точностью сохраняла воспоминания о каждой встрече, каждом движении, каждом ощущении. Ни ежеминутный труд, ни жаркие молитвы, ни унизительные исповеди, ни беспрестанное умерщвление плоти — ничто не могло отогнать этих воспоминаний, так они были живы.
Но сегодня я могу без мучений, лишь с пронзительной нежностью, вспомнить свою девичью комнатку, которую занимала в юности в доме дяди Фюльбера.
Я вновь вижу себя за столом перед раскрытыми рукописями. Я чутко прислушивалась, ожидая твоего возвращения из кафедральной школы. Я любила самый звук твоих четких и быстрых шагов и наслаждалась сладостью ожидания. Я знала, что ты замрешь на мгновение в проеме двери, прежде чем она вновь захлопнется, закрывая нас в нашем раю.
Дядя доверял нам безмерно. Когда он впервые привел тебя ко мне в день, когда ты у нас поселился, он счел необходимым ненадолго остаться с нами и присутствовать при начале урока философии, который ты незамедлительно мне дал. Ученость твоих речей одновременно и нагнала на него сон, и убедила в твоей серьезности.
Дело в том, что он не видел твоего взгляда!
Подняв на тебя глаза, когда он представил нас друг другу, я поразилась выразительности твоего лица. Ты обращался ко мне с какими-то банальными словами, но твой взгляд выдавал самый жгучий интерес.
Несколько дней, однако, ты довольствовался этим языком и при этом заставил меня прилежно заниматься, ограничиваясь тем, что глядел на меня, как охотник из засады. Я же ждала и вместе с тем страшилась момента, когда твоя манера изменится. Меня охватывала сладостная тревога.
Заставляя меня томиться, ты выказал себя весьма тонким и искусным любовным стратегом, хоть и не был подготовлен к этому своей прошлой жизнью и получал со мной боевое крещение. Самый опытный мужчина не повел бы себя иначе. Было ли то смущение перед первым жестом, осторожность в виду возможного недовольства Фюльбера или ты попросту не решался увлечь в бездны страсти девственницу, каковой я была? Не знаю. Позже я забыла спросить тебя об этом. Мы были заняты делом, совсем не оставлявшим нам времени на взаимные расспросы…
Как бы то ни было, твое промедление, заставив меня усомниться в твоих чувствах, смело последние препятствия, которые еще воздвигало во мне целомудрие. Вначале удивленная, затем обеспокоенная, я сочла, что ошиблась и вовсе не нравлюсь тебе. Меня изводили сомнения. Почему ты молчишь? Разве ты не испытываешь волнения в моем присутствии? Быть может, я неверно истолковала твои взгляды? Неужели я самоуверенно приняла за влечение то, что было всего лишь единением духа и общностью вкусов учителя и ученицы?
Я не знала, что думать. В то же время двусмысленность наших отношений обнаруживала себя во множестве ловушек и тысяче искушений. Бок о бок мы склонялись над книгой, наши руки мимоходом соприкасались, дыхание смешивалось. Только дрожь в голосе выдавала иногда наши внутренние бури.
Отсрочка, положенная тобой для утоления наших вожделений, окончательно свела меня с ума.
Совершенно очевидно, что этим промедлением ты и покорил меня самым искусным образом. Если в моем сердце и сохранялся какой-то неподвластный тебе уголок, ты все пустил в ход, чтобы и он сдался на твою милость.
И могла ли ученица монастырской школы не почувствовать упоения, когда всеведущий, всеми почитаемый учитель расточал себя ради нее одной?
Может быть, ты с самого начала почувствовал, что волновал меня? Может быть, ты с первого дня уже знал, что тебе достаточно сделать шаг? Я готова поверить в это. Но твоя властная натура жаждала подчинить себе и мою мысль, чтобы я принадлежала тебе и умом, а не только телом.
О, Пьер! Ты стремился к абсолюту, и тебе мало было просто соблазнить меня. Тебе нужно было еще сплавить два наши разума воедино, бросив мой в огонь своего… Твоя власть была огромна, ты знал ее. Ты без труда обучал меня своим методам — к ним я, впрочем, была вполне готова. На моих мыслях навсегда остался отпечаток твоих суждений. Ты знаешь, что я никак не сопротивлялась этому. Я приняла твое учение, как земля принимает дождь.
Очень скоро меня покорили оригинальность, глубина и блеск твоих воззрений. Еще раньше я была покорена очарованием твоей личности, твоих глаз, твоего голоса. Ты ослеплял меня! Все твое существо было для меня совершенством до последней частицы.
Помню, когда ты уходил, я долго сидела неподвижно, как околдованная.
Уже давно стемнело, ибо дядя в своем безумии предоставил тебе свободу учить меня в любое время суток. Конечно, вечер подходил для этого лучше всего, и ты предпочитал ночные часы, когда повсюду гасли огни и мы оставались наедине.
Фюльбер, служанки, все в доме спали. Лишь моя комната сияла в темноте, как прибежище тепла и света, освещенная двумя свечами с ароматом амбры. От монастыря Нотр-Дам, спящего между рекой и собором, не доносилось ни звука. Только отворив окно, можно было различить слабый плеск воды у берегов нашего острова. Город, убаюканный в объятиях Сены, целиком погружался во мрак и тишину.
Мои напряженные до предела нервы возбуждались этой темнотой, ставшей нашей сообщницей. Все толкало меня к любви: разве не звала меня к тому и сама ночная уединенность нашего убежища? Я всегда считала и все еще считаю, что Провидение с самого моего рождения предназначило мне быть твоей. Такое стечение обстоятельств не обманывает.
Ты покорил меня насколько это было возможно, и мне оставалось только полностью принадлежать тебе.
Ты догадался о моем согласии и ты тоже устал ждать: молчаливый сговор привел нас к развязке. В тот вечер, когда ты привлек меня к себе на грудь, я не оказала ни малейшего сопротивления, и ты сделал то, что хотел.
Помнишь? На мне было платье из алой ткани, и твои пальцы разорвали мой серебряный пояс.
Мы как раз закончили перевод страницы из Сенеки. В пылу объяснений ты положил свою руку на мою. Так она и осталась. И тогда я увидела, как оживление мысли сменилось на твоем лице совсем иным волнением. Я ждала этой секунды, я звала ее бессонными ночами и однако я ее страшилась. Почувствовав твое дыхание на своих губах, я задрожала с головы до ног от смущения и какого-то детского страха.
Ты понял мое смятение. Ты сумел унять его. Из уважения к этой вспышке целомудрия ты заставил себя сдержать собственный порыв и, не торопясь, приручить меня. Я сохранила к тебе огромную благодарность за эту деликатность, на которую, кажется, способны не многие мужчины.
Вслед за сердцем и разумом пришло время пробудиться и моему телу, шаг за шагом, до полного расцвета.
Годами тоска по твоим ласкам преследовала меня неотступно во сне и наяву. Ты об этом знаешь. Я жаловалась тебе на это. Это стало, конечно же, справедливым наказанием за нашу слишком нежную любовь. Мы познали ее, Пьер, опьяненные новизной и забыв об обмане. Ибо мы обманывали доверие дяди без малейших угрызений совести и под его собственным кровом.
И все же до сих пор, вспоминая наши восторги, я не чувствую ни малейшего стыда. Поскольку впоследствии Бог покарал нас, мы обрели — и какой ценой! — право хранить о них память. Мы заплатили, о возлюбленный мой. Безжалостными испытаниями, твоей кровью и моими слезами мы омылись от наших грехов.
Я их искупила, но не отреклась от них. Я всегда буду держаться того, что дар мой тебе был сама чистота, ибо это был дар без остатка. Лишь позже я навлекла на наши головы гнев Господа. Но не в тот момент.
Помнишь ли ты наши порывы и охвативший меня экстаз? Нет, нет, мы не опустились до уровня животных, но поднялись к радостям выше нашего удела. Позднее ты обвинял себя в похоти. Я отвергаю это обвинение. Нежность и внимание, с которыми ты приобщил меня к любви, уважение, которое ты никогда не переставал выказывать мне в самые безумные мгновения нашего исступления, — они свидетельствуют в пользу нашей страсти.
Меня всегда терзало, что позже ты неизменно выказывал отвращение ко всему, что напоминало тебе об этих счастливых месяцах. Почему ты заклеймил их? Ведь они были выражением всего, что было в нас лучшего, самого лучезарного, самого пылкого.
Думая о том времени, я вижу дни, которые, как шелковые нити, сплетались в ткань блаженства. Дай мне вспомнить в последний раз, как эти дни текли.
Едва ты переступал порог моей комнаты, время останавливалось. Я не различала даже привычных домашних звуков. Ничего не видя, не слыша и не чувствуя, я жила в мире, где были лишь ты и я. Помню, летом у твоих губ был вкус цветов, ибо ты жевал жасмин, чтобы сделать ароматным дыхание. Зимой ты носил толстый шерстяной плащ на волчьем меху. Дух хищника, который он еще хранил, оставался на твоей коже. Прижавшись к тебе, я любила вдыхать этот запах зверя, странно примешивавшийся к аромату трав, которыми ты обычно натирался после купания.