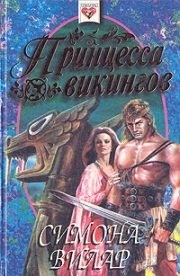Лицо сестры Марии стало еще жестче.
– Когда-то я спасла тебе жизнь, вынеся из пылающего дворца во время набега норманнов. Теперь я жалею об этом.
Эмма вздохнула. Она помнила рассказы матери и понимала, что эта женщина говорит правду.
– Когда молва донесла до нас весть, что Эмма из Байе возвращается в свой город, я решила, что ты вернулась ради мести. И ждала, что ты поступишь так же, как поступила Пипина Анжуйская. В Байе было много толков о том, что оба нормандских брата сохнут по тебе.
– Я никогда не коснусь Ролло! – гневно воскликнула Эмма. – Вы вправе требовать от меня чего угодно, но я никогда не поступлю с сыном Пешехода так, как Пипина Анжуйская поступила с самим Пешеходом. То был варвар, погубивший ее жизнь. Роллон Нормандский столько раз спасал меня… Да разве вы сами не лечите Атли Нормандского, меня же хотите принудить нарушить заповедь Христову!
Однако монахиня на слова девушки обратила внимания не больше, чем на сползающую по сырой стене каплю влаги.
– Я лечу Атли Нормандского и делаю все, что в моих силах, дабы он вернулся к жизни. Ибо я часто бываю в усадьбе Ботто и не раз слышала разговоры варваров о том, что этот мальчишка так дорог язычнику Ролло, что он даже отказался ради него от тебя. И ты смирилась с этим, хотя в тебе достаточно силы, чтобы вогнать между братьями меч вражды. Это и стало бы твоей местью. И если Атли возненавидит Ролло, если Ролло начнет страдать из-за предательства брата, а сердце Атли разобьется о вашу с Ролло любовь – тогда ты достигнешь цели!
Монахиня гневно отвернулась и торопливо ушла. Эмма глядела перед собой невидящим взглядом.
– Нет, это невозможно, – тихо произнесла она наконец. – Разве я не пыталась? Что я значу для Ролло по сравнению с братом?
И тем не менее эта мысль глубоко засела в ней. Ботто уже сообщил ей, что послал в Руан гонца с вестью, что Атли ранен и может не оправиться. А это значило, что Ролло непременно прибудет – и они вновь встретятся! Эта мысль согревала ее сердце, как весеннее солнце. Но разве все ее прежние попытки не разбивались о его несокрушимую волю? Атли был самым уязвимым местом конунга. Он любил его, он верил в него. И если Атли возненавидит брата… Когда-то она поклялась себе, что заставит Ролло страдать. И если он оказался несокрушим, то Атли более чем слаб. Жалкий, преданно любящий ее Атли… Эмма почувствовала, как у нее сжалось горло. Почему ее судьба так неразрывно переплелась с их судьбами? Она обязана обоим, она по-своему любит каждого из них. Но оба они – ее враги, и не только потому, что пришли завоевателями на землю ее предков, но также и потому, что оба разрывают ее сердце на части. Но именно в этом, как ни странно, и заключалась ее сила.
У Эммы голова пошла кругом от этих мыслей. Она была рада, вернувшись в усадьбу, погрузиться в обычную житейскую суету.
За несколько дней, проведенных в Байе, Эмма свыклась со здешним укладом жизни. Поначалу ее, правда, тяготило то обстоятельство, что она не могла нигде уединиться, ибо жизнь обитателей усадьбы проходила на виду у всех. Однако, поскольку от природы Эмма была чрезвычайно общительна, она вскоре примирилась и с этим. С утра она вместе с Берой и ее дочерьми принималась хлопотать: чесала шерсть, пряла, занималась стряпней. После полудня шла проведать Атли. По сути, это было единственное место, где она могла укрыться от множества чужих взглядов. Виберга по-прежнему дичилась норманнов, обрекая себя на добровольное затворничество в стабюре. Помимо этого, ее удерживала там жалость к раненому юноше. Порой она сердито выговаривала госпоже:
– Он так часто зовет вас в бреду, что вы могли бы больше времени проводить с ним!
Эмма вглядывалась в бледное, осунувшееся лицо Атли, вслушивалась в его хриплое дыхание. Жалость – это все, что она испытывала и испытывает к нему. И еще, разумеется, благодарность. Именно эти чувства заставляли Эмму подниматься в стабюр, кормить Атли, причесывать, беседовать с ним, петь ему, когда он просил. Она видела, что Атли идет на поправку, хотя все еще очень слаб. Она взбивала ему постель, меняла рубахи, умывала его, сидела рядом, держа его руку в своих ладонях, пока он засыпал. Но потом, вздохнув с облегчением, уходила, почти убегала. И только поздно вечером, когда она укладывалась спать в своем боковом покое, ее одолевали тревожные мысли и сомнения.
Спален в большом доме усадьбы было немного, а так как Эмма решительно отказалась проводить ночи в стабюре, ей пришлось делить покой с Ингрид. Порой по вечерам к ним заглядывал Бьерн, дурачился и смешил обеих. Эмма не знала, как вести себя, ибо Бьерн уделял ей куда больше внимания, чем невесте. Но Ингрид была еще совершенным ребенком, чтобы ревновать, а Бьерну хватало благоразумия сдерживать себя. Его последний поцелуй всегда доставался Ингрид. Эмме девочка безгранично доверяла и была по-детски влюблена в нее. Особенно это проявилось после медвежьей охоты, которую в один из первых дней в начале декабря устроил Ботольф. Когда мужчины возвратились с добычей, то устроили на туне[38] воинственные пляски вокруг огромной рыже-бурой туши. Перед этим Бера с Эммой отведали из нескольких бочонков, насколько выстоялся мед, и если сама хозяйка и глазом не моргнула, девушке все время хотелось смеяться. Когда же она увидела пляшущих в кругу с песнопениями воинов, то, недолго думая, присоединилась к ним. Ее не удерживали – ведь христиане не ведают норманнских обычаев, зато Ингрид это дало повод присоединиться к подруге, а вслед за нею и еще несколько женщин воспользовались случаем поплясать лишний раз.
Суровая Бера была недовольна, но Ингрид лишь потешалась над ней и льнула к Эмме:
– После того как ты появилась в Байе, здесь стало особенно весело, – и добавляла едва слышно: – Отец не хочет, чтобы ты стала женой Атли. Я слышала, он говорил, что воспользуется любым предлогом, чтобы отсрочить ваш брачный пир.
Сама же она с нетерпением ждала, когда пройдет праздник Йоль, после которого наступит время ее свадьбы. Для нее это было словно новая игра, и для легкомысленного Бьерна, казалось, тоже. Он плясал с Ингрид, катал ее верхом, дарил безделушки, однако взгляд его по-прежнему вспыхивал темным огнем, когда он видел Лив.
Едва опускались ранние зимние сумерки, в дом набивалось множество народу: старики, молодые мужчины, женщины. Дети и собаки возились под столами, чадили плошки с жиром, трещали смоляные факелы, гудело пламя в очагах. Становилось светло и жарко. Вечерние трапезы обычно бывали обильными – колбасы, копченое сало, мед в сотах, всевозможные лепешки, сыры, а также великое множество рыбы – свежей, вяленой, маринованной, копченой и соленой. Пили также немало. Женщины следили, чтобы на столах ни в чем не было недостатка; рабы, сытые и часто под хмельком, усердно помогали им. После еды и возлияний никто не стремился в постель, но обычно никто и не сидел без дела: занимались починкой сбруи, перчаток, чистили оружие. Женщины вязали, шили. Эмма и здесь привлекла к себе всеобщее внимание своим голосом, и ее нередко просили спеть. Бывало, мужчины обсуждали деяния Ролло и громко хвалили его, и тогда Эмма жадно вслушивалась в их речи.
Когда дом затихал, она уходила в свою горницу и долго лежала без сна. Стоило ей остаться наедине со своими мыслями, как ее охватывала печаль. Только себе самой она могла признаться, как тоскует без Ролло, как ждет его и как страшится его приезда.
– Думаю, он прибудет к Йолю, – сказал как-то Ботольф. – Сын Пешехода не упустит случая отведать праздничной свинины и осушить жбан браги со старым Ботольфом. Так что будь наготове, дитя.
Снег, выпавший в начале декабря, валил несколько дней подряд, но в большом доме было жарко, мужчины порой раздевались по пояс в дыму очагов. Случалось, здесь затевали борьбу или засиживались у огромной доски за игрой с резными фигурками, похожими на шахматные, но совсем с иными правилами.
Бьерн Серебряный Плащ был в городе всеобщим любимцем, и его часто приглашали в другие усадьбы, упрашивая рассказать или спеть что-либо. Глаза Бьерна загорались, и когда гул слушателей стихал, он вставал, опорожнял свой рог и заводил длиннейшие повествования о богах и героях, о старухе Вельве, поджидающей мертвых у входа в мрачное царство Хель, о пророчествах и гаданиях, о кознях Локи, о злом колдовстве. Эмма любила отправляться вместе с ним, заводить новые знакомства. Ее уже знали в Байе, а иной раз просили рассказать о Боге христиан. Особенно прислушивались к ее речам женщины, а также старики, которые считали, что совершили недостаточно подвигов, чтобы вознестись в чертоги Валгаллы. Мрачная перспектива угодить в царство Хель их вовсе не привлекала, а вот оказаться в раю, приняв новую веру, было заманчиво. Их привлекало также и то, что даже брат великого Ролло сделался христианином. Некоторые из них стали захаживать в церковь, прислушиваться к службам, и Эмма видела в этом свою заслугу, о чем, встретив сестру Марию, не преминула сообщить. Но на монахиню это не произвело никакого впечатления. Она твердила одно: Эмма должна стать причиной раздора между братьями, и тогда франкская земля напьется черной норманнской крови. Не было смысла доказывать ей, что нет такой силы, которая могла бы поколебать власть конунга в Нормандии, даже если Атли и отступился бы от него.