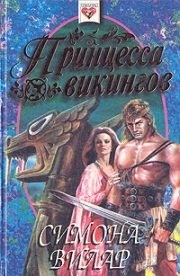– Я всегда знал, что маленькому ярлу отпущен недолгий срок, но никогда не думал, что столь тяжело будет видеть его уход. Я знал его совсем мальчишкой…
Эмма все свое время проводила с Атли. Он был так слаб, что в иной день ему следовало бы оставаться в постели, но он вновь и вновь заставлял себя подниматься на ноги, чтобы посещать все службы в церкви. Эмма считала, что этот храм неподходящее место для больного Атли, но юноша лишь улыбался в ответ:
– Когда я слышу стройное пение псалмов, мне становится легче. Я чувствую тогда, что готов предстать перед тем, кого столь упорно не желает признать мой брат.
Однажды он впал в беспамятство посреди мессы, и Эмма сказала ему позднее:
– Господь видит твою веру, ибо читает в душе детей своих, как в открытой книге. Пожалей же себя!
Но Атли продолжал упорствовать:
– Пока во мне есть хоть капля силы, я буду вставать. Не хочу, чтобы смерть пришла ко мне, когда я буду беспомощен, словно связанный жертвенный ягненок.
Порой они с Атли проводили время в скриптории монастыря. Это было самое покойное и сухое место на горе. В больших каминах трещал огонь, слышно было поскрипывание перьев братьев-переписчиков. Атли и Эмма садились в нише окна, порой к ним присоединялся отец Лаудомар. Между настоятелем и братом Роллона установились поистине приятельские отношения.
– Это необыкновенно ученый человек, – говорил Атли. – В молодости он побывал в Риме и посетил могилу Святого Петра. Святость его так велика, что, при всей кротости отца Лаудомара, его слушается даже мой брат.
Эмма и сама замечала, что в присутствии этого полного благодати старца на нее нисходят мир и спокойствие. Его негромкая, плавная речь лилась, словно струи чистого ключа.
– Некогда здесь было кельтское святилище, – повествовал настоятель. И только в пятисотом году от Рождества Христова сюда прибыли два монаха – Патернус и Скубилион. До сих пор сохранились две маленькие часовни в их честь. Однако, когда вы видите где-либо на стенах построек изображения трехрогого тура или змеи с головой барана – это следы гнусных языческих культов, и я велел бы их уничтожить, не будь они столь прекрасны, столь мастерски исполнены…
Эмме нравилось столь терпимое отношение святого отца к наследию древности, но больше всего ее дивило, как много знает этот священнослужитель, правящий своей паствой на самом краю света, обо всем, что творилось и творится в мире. Он поведал Эмме, как ее мнимый дядюшка Фульк Рыжий сжег предместье Блуа; как в Реймсе состоялось венчание короля Карла и английской принцессы Этгивы; он знал многое о повадках и обычаях диких мадьяр, вновь теснящих христиан с востока так, что германский король Людовик Дитя потерпел от них сокрушительное поражение на Леховом поле.
Эмма слушала с живейшим интересом, у Атли же был отсутствующий вид. Казалось, ничто уже в этом мире его не занимает. Однако, когда она обратилась к нему с вопросом, как вести издалека доходят до Мон-Томб, он спокойно пояснил, что их приносят паломники. Эмма даже рассердилась на себя за недогадливость. Конечно же – дня не проходило, чтобы среди песков не появлялись силуэты тех, кто брел по зыбкой почве к святилищу воинственного архангела Михаила. Эмма не раз видела, как настоятель сам выходил им навстречу, опускался на колени и омывал странникам ноги, и это всегда трогало ее, хотя она знала, что даже короли франков дважды в году преклоняют колени перед теми, кому Господь оказал предпочтение – перед бедняками.
Всякий раз после полуденной службы Атли просил девушку отвести его к скалистому выступу, откуда открывался вид на море. Здесь находилась довольно обширная, мощеная гранитом площадка, за краем которой разверзалась бездна, ибо даже обломков парапета, не считая двух-трех глыб, не осталось со времен первых поселенцев. Здесь всегда грело солнце, но было ветрено, и Эмма, усадив Атли в складное кресло, укутывала его в меха. Он зяб, но не мог отвести глаз от моря.
– Я хочу первым увидеть драккар Ролло, – твердил Атли. – Нас с братом связывает неразрывная нить крови. Когда в Байе Ботольф утверждал, что конунг прибудет со дня на день, я сомневался, ибо сердцем чувствовал, что он еще далеко. Теперь же он в пути, я знаю твердо.
Эмма обращала лицо к морю, и ее охватывало волнение. Он уехал с ненавистью в сердце, и теперь она ждала его с чувством, похожим на ужас. Но это был сладостный ужас, ибо в нем трепетала надежда.
Атли не мог не заметить этот ее взгляд и однажды сказал:
– Когда я узнал о твоей измене, мне показалось, что я навсегда утратил интерес к жизни.
Эмма взглянула на него испуганно. До этой минуты он ни словом не упрекнул ее. Но в том, что он говорил, не было чувства обиды, это было воспоминание о том, что ушло и уже не вернется.
– Не говори так! Как мне жить, неся бремя такой вины!
Он с изумлением повернулся к ней, потом изумление сменилось улыбкой:
– Я не хочу тебя винить. Ты сама говорила, что нить судьбы не в руках человека. Я не сумел понять, что рыжая красавица с горячей кровью явилась на свет отнюдь не для меня. Я, как слепой, устремился за мечтой, пока не разбился о камни. Но будь спокойна. В том, что я сказал, нет упрека. Я благодарен тебе за одно то, что еще не утратил способности чувствовать.
Эмма ощутила едва уловимое пожатие его руки. Атли глядел на нее потухшими глазами старца.
– Здесь, молясь и утешаясь, я научился думать о тебе иначе – без страсти и волнения. И вдруг понял, какое невыносимое бремя несла ты все это время, разрываясь между чувством признательности к младшему брату и любовью к старшему.
Он прикрыл глаза, подставив бескровное лицо солнцу.
– И еще я понял, как трудно все это время было Ролло. Небо наградило меня лучшим из братьев, какого только может желать смертный. Он сделал для меня все, что мог, – возвысил, оберегал и заботился. Он давал мне все, чего бы я ни захотел. Я же был столь неблагодарен, что не пожелал отдать ему единственное, чем мог отблагодарить, – тебя.
Он вдруг забеспокоился, глядя вдаль:
– Мне нельзя не дождаться его. Я должен все исправить. Между тобой и Ролло не должно остаться преград.
У Эммы радостно вспыхнули, но тут же погасли глаза.
– Благослови тебя Господь и его Пречистая Матерь за твою доброту, Атли. Однако пока на свете есть Снэфрид…
– Снэфрид – порождение нечистого духа. И если во мне останется хоть капля сил, я стану молить брата, чтобы он расстался с ней. Он мне поверит, потому что давным-давно в нашем священном городе Упсале ему было предсказано вещими женами, что я помогу ему освободиться от чар.
В груди Эммы бушевала целая буря чувств. В ней крепла надежда, а вместе с ней и благодарность, и горечь вины, и страх, что невозможное так и останется невозможным. В какое-то мгновение она решилась было сказать Атли, что носит под сердцем ребенка, но не посмела и отвела взгляд.
– Я не заслуживаю и десятой доли твоего великодушия…
На его лице появилась тень улыбки:
– С каких это пор Эмма стала столь смиренной?
Он вновь пожал ее руку.
– Ты не могла полюбить меня, однако разве ты не была все это время мне другом, сестрой, нянькой? Моя любовь к тебе… Что ж, не будь ее, мои дни не были бы так наполнены страстями и событиями. Ты принесла в них не только страдание, но и радость. Мне будет что вспомнить об этой земле, когда душа моя окинет ее иным взором с высоты.
– Не говори так! – вдруг запальчиво воскликнула Эмма. – Мне становится страшно. Ты кажешься далеким, как обитатель небес. Так ли уж ты безразличен ко всему земному? Ведь после тебя останется твое семя, росток новой жизни. И Виберга любит тебя!
Атли полуприкрыл веки:
– Ах, да, Виберга… Ты позаботишься о ней и о моем сыне, когда меня не станет? Виберга была добра со мной. Пожалуй, кроме Ролло, она одна сумела полюбить меня. Когда тебя кто-то любит, это дает силы. А я был так слаб, что ее нежность приносила мне облегчение. Благослови ее Господь…
Он вдруг сильно закашлялся, кровь окрасила его губы. Эмма обеспокоенно проговорила:
– Погоди, я принесу тебе теплого вина с медом.
Когда она возвратилась с чашей, Атли неподвижно глядел вдаль.
– Он уже близко. Я чувствую его приближение всем существом. Иисусе, дай мне сил!
У Эммы дрожали руки, когда она поила его вином. Атли взял у нее серебряную чашу с тонкой чеканкой по краю и стал разглядывать ее.
– Как много хорошего в этом мире. Я бы хотел все это запомнить. И вкус вина, и солнце, и блеск серебра, и крики чаек, и то, как ветер развевает твои волосы…