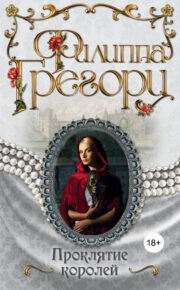Я остаюсь дома, пока двор продолжает разъезды, гуляю по своим полям и смотрю, как пшеница становится золотой. В первый день жатвы я выхожу в поле со жнецами и смотрю, как они рядком идут по полю, срезая серпами колышущийся урожай, как зайцы и кролики бросаются прочь, пока мальчишки не спустили на них лающих терьеров.
За мужчинами следуют женщины, захватывая большие скирды и одним ловким движением связывая их; их платья подоткнуты, чтобы легче было шагать, рукава высоко закатаны, обнажая загорелые руки. У многих за спиной привязан младенец, за большинством идет пара детей, вместе со стариками они подбирают упавшие колоски, чтобы ни зернышка не пропало.
Меня наполняет неистовая радость скряги, когда я смотрю, как это золото сыплется в сокровищницу. Я предпочла бы хороший урожай всей утвари, которую могла бы отобрать у аббатства. Я сижу на коне, смотрю, как работают мои крестьяне, улыбаясь им, когда они окликают меня и говорят, что год был хороший, хороший для всех нас.
Вернувшись домой, я замечаю на конюшне чужую лошадь и мужчину, пьющего эль у дверей кухни. Он поднимает голову, когда я въезжаю во двор, и снимает шляпу. Странная шляпа, по итальянской, кажется, моде; я спешиваюсь и жду, чтобы он ко мне подошел.
– У меня послание от вашего сына, графиня, – говорит он. – Он здоров и шлет вам добрые пожелания.
– Рада получить от него весточку, – отвечаю я, стараясь не выдать волнения.
Мы все ждем, мы ждем уже много месяцев, чтобы Реджинальд закончил отчет о требовании короля признать его верховным главой английской церкви. Реджинальд обещал, что скоро закончит работу и что поддержит взгляды короля. Как он выберется из лабиринта, где сгинул Томас Мор, как избежит ловушек, которые, щелкнув, поймали Джона Фишера, я не знаю. Но во всем христианском мире нет более ученого человека, чем мой сын Реджинальд. Если есть в долгой истории церкви нечто подобное притязаниям нашего короля, он это отыщет и, возможно, отыщет еще и способ восстановить в правах принцессу Марию.
– Я прочитаю и напишу ответ, – говорю я.
Гонец кланяется.
– Я буду готов отвезти его завтра, – говорит он.
– Управляющий найдет, где вас сегодня поселить и накормить.
Я иду во внутренний садик, сажусь на скамью под розами и ломаю печать на письме Реджинальда ко мне.
Он в Венеции, я кладу письмо на колени и пытаюсь представить своего сына в сказочном городе, богатом и прекрасном, где у порога домов плещется вода и нужно нанимать лодку, чтобы добраться до большой библиотеки, где Реджинальда чтут как ученого.
Он пишет, что болен и думает о смерти. Мысли эти вызывают у него не печаль, а чувство покоя.
Я завершил свой отчет и послал его более длинным письмом королю. Он не предназначен для обнародования. В нем мое суждение, которого просил король. Оно точное и любящее. Ученый в душе короля оценит силу логики, богослов поймет историю. Дурак и человек, живущий страстями, будут потрясены, что я называю его и тем, и другим, но я верю, что смерть его наложницы дает ему шанс вернуться в церковь, что он должен сделать, чтобы спасти свою душу. Я для него пророк, такого Господь послал Давиду. Если он сможет ко мне прислушаться, то для него еще возможно спасение.
Я посоветовал ему отдать мой труд своим лучшим ученым, чтобы они подготовили для него краткое изложение. Письмо вышло длинным, и я знаю, что у него не хватит терпения прочитать его целиком. Но есть в Англии люди, которые прочтут его и не обратят внимания на резкие слова, потому что захотят услышать правду. Они могут ответить мне, и, возможно, я напишу иначе. Это не заявление, которое нужно обнародовать, чтобы каждый мог полюбопытствовать, это документ, который должны обсудить между собой ученые.
Я долго болею, но мне не нужен отдых. Есть те, кто порадуется моей смерти, и бывают дни, когда я рад был бы заснуть и не проснуться. Я помню и надеюсь, что вы тоже помните, что, когда я был еще мальчиком, вы отдали меня Господу и уехали прочь, оставив меня в Его руках. Не волнуйтесь обо мне теперь – я по-прежнему в руках Его, где вы меня оставили.
Ваш любящий и покорный вам сын Реджинальд.
Я прижимаю письмо к щеке, словно могу ощутить запах ладана и свечного воска в кабинете, где Реджинальд писал. Целую подпись, вдруг он тоже поцеловал письмо, прежде чем запечатать и отослать. Я думаю, что мы его в самом деле потеряли, если он отвернулся от жизни и жаждет смерти. Единственное, чему я его научила бы, останься он со мной, – это никогда не уставать от жизни; цепляться за нее. Жизнь – почти любой ценой. Я никогда по доброй воле не готовила себя к смерти, даже когда рожала, я никогда не положу голову на плаху. Я думаю, что не нужно было оставлять его у картузианцев, хоть они и были праведными людьми, хоть я была бедна и не могла иначе его прокормить. Надо было побираться на обочине, с сыном на руках, не позволить его у меня забрать. Не надо было позволять ему вырасти тем, кто видит себя в руках Господа и молится о том, чтобы уйти на небеса.
Я потеряла его, когда оставила в приорате, потеряла, когда отослала его в Оксфорд. Потеряла, когда отправила в Падую, и теперь осознаю размер и непоправимость своей потери. Когда-то, когда я была замужем за хорошим человеком, у меня было четверо красивых мальчиков, а теперь я старуха, вдова, у которой лишь два сына в Англии – и Реджинальд, самый умный, тот, кому я была нужнее всего, далеко-далеко от меня и желает себе смерти.
Я прижимаю его письмо к сердцу и горюю о сыне, который устал от жизни, а потом начинаю думать. Перечитываю письмо, гадаю, что он имеет в виду под «резкими словами», что он хочет сказать, называя себя пророком для короля. Надеюсь, очень надеюсь, он не написал ничего, что пробудит вечно тлеющее в короле подозрение или вызовет его неустанный гнев.
Двор возвращается в Лондон, и как только король водворяется у себя, меня призывают в его личные покои. Я, конечно, надеюсь, что он собирается назначить меня главой дома принцессы и спешу из своих комнат, через двор, сквозь маленькую дверцу наверх, через большой зал, пока не добираюсь до покоев короля в этом муравейнике, Вестминстерском дворце.
Я прохожу сквозь толпу в зале аудиенций с легкой улыбкой предвкушения на лице. Им всем, возможно, придется подождать, но меня вызвали. Он точно назначит меня служить принцессе, и я смогу помочь ей вернуться к подлинному титулу и истинному ее положению.
Желающих видеть короля сегодня больше, чем обычно, у большинства в руках чертежи или карты. Монастыри и церкви Англии раздают, один за другим, любому, кто захочет свою долю.
Но эти люди держатся неловко. Я узнаю старого друга мужа, одного из жителей Гулля, и киваю ему, проходя мимо.
– Король вас примет? – поспешно спрашивает он.
– Я как раз сейчас иду к нему, – отвечаю я.
– Прошу, спросите, можно ли мне увидеть его, – произносит посетитель. – В Гулле все больны от страха.
– Скажу, если смогу, – отвечаю я. – Что случилось?
– Люди не могут вынести того, что у них забирают церкви, – быстро говорит он, косясь на двери личных покоев. – Они этого не потерпят. Когда разрушают монастырь, ограблен оказывается весь город. Города выходят из повиновения, горожане не хотят смириться. Они собираются на севере и говорят о том, что нужно защитить монастыри и прогнать проверяющих, которые приехали их закрыть.
– Вы должны сказать лорду Кромвелю, это его работа.
– Он знает. Но он не предостерег короля. Он не понимает, какая опасность нам грозит. Говорю вам, мы не сможем удержать север, если люди объединятся.
– Для защиты церкви? – медленно произношу я.
Он кивает.
– Говорят, это все было предсказано. Они все за принцессу.
Один из королевских слуг открывает дверь в личные покои и кивает мне. Я покидаю горожанина, не сказав ни слова, и вхожу.
В личных покоях короля прохладно и темно, ставни не пропускают внутрь серый осенний свет, в камине сложены дрова, но огонь пока не разведен. Король сидит за широким чернолощеным столом в огромном резном кресле и хмурится. Стол завален бумагами, у дальнего его края ждет с занесенным пером секретарь, словно король диктовал письмо и только что прервался, услышав стук часовых и увидев, как распахивается дверь. На другой стороне стоит лорд Кромвель, он вежливо склоняет голову, когда я вхожу.