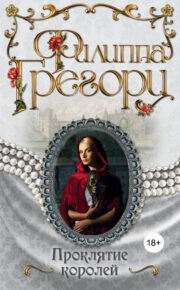Я иду под горячим солнцем по своим полям и смотрю на зреющую пшеницу. Урожай нынче будет богатый. Я вспоминаю Тома Дарси, приславшего мне весть о том, что настанут лучшие времена, и думаю о том, что Томас Кромвель постановил, что надежда эта изменническая. Я все гадаю: собираются ли зерна пшеницы созреть и нет ли в этом измены? На закате из посевов выскакивает заяц, по широкой дуге обегает меня на тропинке, а потом останавливается, садится столбиком и смотрит на меня умными темными глазами.
– А ты? – тихо спрашиваю я зайца. – Тоже дожидаешься, когда придет твой час? Ты тоже изменник, ждешь, чтобы настали лучшие времена?
Всех доставленных в Лондон судят и признают виновными. Обвиняют священников: приора Гисборо, аббата Жерво, аббата Фаунтенского аббатства. Под арест берут Маргарет Балмер – за то, что слишком любит мужа и умоляла его бежать, когда думала, что паломничество окончилось неудачей. Против нее дает показания ее собственный капеллан, а ее мужа, сэра Джона Балмера, вешают и четвертуют в Тайберне, когда жену сжигают в Смитфилде. Сэр Джон виновен в измене, она виновна в том, что любила его.
Роберта Аска доставляют из Тауэра в суд, а потом везут обратно в тюрьму, хотя в прошлый раз, когда Аск приезжал в Лондон, он пировал при дворе и его обнимал король. Аска отвозят из Тауэра на север Англии, где он умрет на глазах своих людей, которые слышали, как он обещал им прощение. Его везут в Йорк и проводят по городу, пораженному и притихшему при виде того, как пал храбрейший его сын. Его ведут на самый верх башни Клиффорд на стенах Йорка, он зачитывает признание, и ему накидывают веревку на шею – туда же, куда король повесил свою золотую цепь; Аска заковывают в железные цепи и вешают.
Некоторые лорды, в том числе я, просили у Кромвеля пощады для северян. «Пощады! Пощады! Пощады!» Ему неведома пощада.
Монтегю приезжает навестить меня в середине лета. Во всех комнатах рассыпан свежий тростник, окна широко распахнуты навстречу ароматному ветру, и дом полнится птичьим пением.
Монтегю застает меня в саду, где я собираю травы, помогающие против чумы, потому что прошлое лето было ужасным, особенно для бедных и особенно на севере. Я израсходовала все масла из своей аптечки, мне нужно приготовить новые. Монтегю опускается передо мной на колени, я кладу запачканную травой руку на его голову и впервые замечаю несколько серебряных волосков среди меди.
– Сын мой Монтегю, ты седеешь, – сурово говорю ему я. – Нельзя, чтобы мой сын был седым, я так буду себя чувствовать совсем старухой.
– Ну, твой драгоценный Джеффри лысеет, – весело отвечает он, поднимаясь. – Как ты это переживешь?
– Как он это переживет! – улыбаюсь я.
Джеффри всегда так носился со своей красотой.
– Он перестанет снимать шапку, – предсказывает Монтегю. – И отрастит бороду, как король.
Улыбка на моем лице гаснет.
– Как дела при дворе? – коротко спрашиваю я.
– Пройдемся?
Монтегю берет меня за руку, и мы идем с ним прочь от садовника и мальчишек, по аптекарскому огороду, через деревянную калитку, на луг, сбегающий к реке. Траву косили, но она снова выросла нам почти до колен; мы получим второй покос с этого поля – пышного, зеленого, в звездах нивяника, лютиков и ярких, растрепанных маков.
Высоко над нами поднимается в ясное небо жаворонок, поющий все громче и громче с каждым взмахом крыльев. Мы останавливаемся и смотрим на парящую точку, пока она почти не пропадает, и тут песня обрывается, и птица мчится вниз, к своему спрятанному от глаз гнезду.
– Я связался с Реджинальдом, – говорит Монтегю. – Король послал Фрэнсиса Брайана, чтобы тот его захватил, и я должен был предупредить Реджинальда.
– Где он теперь?
– Был в Камбре. Какое-то время он был в городе, как в ловушке – Брайан ждал, когда он высунется наружу. Брайан говорит, что ступи Реджинальд хоть одной ногой во Францию, он бы его тут же подстрелил.
– Ох, Монтегю! Он получил твое предупреждение?
– Да, но он знает, что должен остерегаться. Знает, что король и Кромвель ни перед чем не остановятся, чтобы заставить его замолчать. Им известно, что он общался с паломниками и что он пишет принцессе. Они знают, что он собирает против них армию. Джеффри хотел отвезти письмо. Потом сказал, что хочет уйти за Реджинальдом в изгнание.
– Ты ему сказал, что нельзя?
– Конечно нельзя. Но он больше не может выносить эту страну. Король не принимает его при дворе, он снова в долгах, и он не может заставить себя жить под властью Тюдоров. Он был убежден, что паломники победили, думал, что король пришел в разум. Теперь он не хочет оставаться в Англии.
– И что, как он думает, станется с его детьми? С женой? С его землями?
Монтегю улыбается:
– Ты же знаешь, какой он. Вспыхнул, сказал, что уедет, а потом подумал и сказал, что останется и будет надеяться на лучшие времена. Он понимает, что, если еще один из нас уйдет в изгнание, оставшимся будет только хуже. Понимает, что потеряет все, если уедет.
– Кто отвез твое письмо Реджинальду?
– Хью Холланд, бывший управляющий Джеффри. Он теперь занимается перевозкой зерна в Лондоне.
– Я его знаю.
Это купец, который торгует с Фландрией, он переправил Джона Хелиара в безопасное место.
– Холланд вез груз пшеницы, хотел повидаться с Реджинальдом и послужить нашему делу.
Мы спускаемся с холма к реке. Слепящая синяя вспышка, словно крылатый сапфир, пролетает над самой водой вниз по течению, быстрее стрелы – зимородок.
– Я бы никогда не смогла уехать, – говорю я. – Я даже не думаю об отъезде. У меня такое чувство, что я должна быть свидетелем того, что происходит здесь. Должна быть здесь, даже когда не стало монастырей, когда кости святых выбросили из святилищ в канавы.
– Знаю, – печально произносит он. – И я тоже. Это моя страна. Что бы ей ни пришлось пережить. Я тоже должен быть здесь.
– Не может же он быть вечным, – говорю я, зная, что эти слова – измена, но меня довели до измены. – Он должен скоро умереть, а законного наследника, кроме нашей принцессы, у него нет.
– Ты не думаешь, что королева может родить ему сына? – спрашивает меня Монтегю. – Она на сносях. Он велел отслужить Te Deum в соборе Святого Павла, а потом отослал ее в Хэмптон Корт рожать.
– А наша принцесса?
– Тоже в Хэмптон Корте, служит королеве. Она на подобающем ей положении.
Монтегю улыбается:
– Королева с ней ласкова, и принцесса Мария любит свою мачеху.
– Король не с ними?
– Он боится чумы. Отправился с малым двором в разъезды.
– Оставил королеву рожать в одиночестве?
Монтегю пожимает плечами:
– Ты не думаешь, что он предпочтет быть подальше, если и этот ребенок умрет? Вокруг предостаточно тех, кто говорит, что у него не может родиться здоровый сын. Он не захочет смотреть, как хоронят очередного младенца.
Я качаю головой при мысли о молодой женщине, оставленной в одиночестве рожать первенца, когда муж отдаляется от нее на случай, если ребенок умрет или умрет она.
– Ты не думаешь, что у нее будет здоровый мальчик, правда? – пытает меня Монтегю. – Все паломники говорили, что этот род проклят. Говорили, что ему не видать живого принца, потому что на отце его кровь невинных, он убил Йоркских принцев, наших принцев. Об этом ты думаешь? О том, что он убил двоих Йоркских принцев, а потом твоего брата?
Я качаю головой.
– Я не люблю об этом думать, – тихо отвечаю я, сворачивая по тропинке вдоль реки. – Стараюсь никогда об этом не думать.
– Но ты считаешь, что принцев убили Тюдоры? – очень тихо спрашивает Монтегю. – Миледи мать короля? Когда вышла замуж за коменданта Тауэра и ждала, что ее сын вторгнется в Англию? И знала, что он не может претендовать на трон, пока принцы живы?
– А кто еще? – отзываюсь я. – Их смерть больше никому не была на руку. И никаких сомнений, теперь мы видим, что у Тюдоров крепкий желудок, они переварят любой грех.
Я лежу на своей большой лондонской кровати, за задернутыми от осеннего холода занавесями, и тут начинают звонить колокола, торжествующий трезвон, начатый одним колоколом, подхватывает весь город. Я выбираюсь из кровати и накидываю халат, дверь в спальню открывается, и вбегает служанка. Она в таком волнении, что свеча в ее руке дрожит.